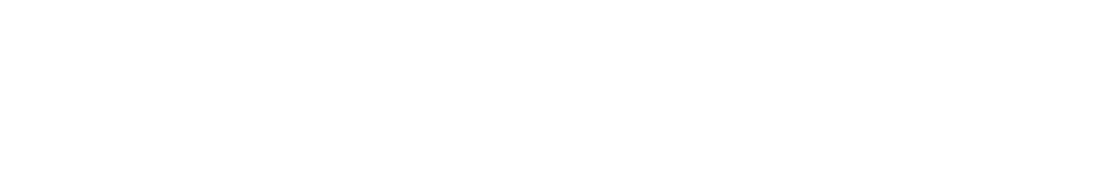Страсти в терапии. «В вас есть что-то еще»
«В вас есть что-то еще»1.
Опубликовано в Гештальт Гештальтов-2007 №2
Мы знаем или смутно чувствуем, что страсть может вывести из равновесия, привести в экстаз, заставить человека отказаться от очень многого, включая себя самого, словом, означает прыжок в беспредельное и бескрайнее. Поэтому истинная страсть чрезвычайно редка. Как умная хозяйка, мы опасаемся класть все яйца в одну корзину. Мы стараемся быть сдержанными и всегда готовы к отступлению, подчиняясь, по-возможности, инстинкту самосохранения. Мы, естественно, боимся потерять себя в другом человеке. Поэтому с любовью происходит то же, что и с образованием, и с психоанализом: все считают себя знатоками, но истинных – немного. К.Хорни2.
В великой комедии, — в комедии жизни — все пылкие души находятся на сцене, все гениальные люди занимают партер. Первых зовут безумцами; вторых, копирующих их безумства, зовут мудрецами. Мудрец подмечает смешное во множестве различных персонажей и, запечатлев его, вызывает в вас смех и над несносными чудаками, чьей жертвою вы стали и над вами самим. Мудрец наблюдал за вами и набрасывал забавное изображение и чудака, и ваших терзаний. Д.Дидро «Парадокс об актере».
Страсти по гештальту. В первичном, библейском значении этого выражения – это «Страсти в изложении, в версии кого-либо» (страсти по Матфею – изложение страданий Иисуса апостолом Матфеем), сегодня это выражение часто трактуется не очень грамотно (это не «про» Матфея). Скорее речь идет о взглядах на проблемы страстей гештальт-терапевтов, говорить о целостном представлении о страсти в гештальттерапии тоже, кажется, преждевремменно.
Сейчас в обыденном словоупотреблении страстью стали называть любое сильное желание и даже слабое влечение. Но раньше, в старину, страсть значила иное. Из словаря В.И. Даля узнаем, что «страсть»3 — это: 1) страданье, муки, маета, мученье, телесная боль, душевная скорбь, тоска, а также подвиг, сознательное принятие на себя тяготы, мученичества; 2) страх, испуг, ужас, боязнь; 3) бездна, пропасть, тьма, множество, сила…; 4) душевный порыв к чему-то, нравственная жажда, жажданье, алчба, безотчетное влечение, необузданное, неразумное хотение. Поэтому страстный русский человек XIX века мог быть или «страстником», то есть необузданным, порабощенным страстями грешником, распутным, развратным человеком, или, наоборот, «страстотерпцем», — святым мучеником, подвижником.
В современном русском языке слово «страсть» имеет уже иные значения. Так, в толковом словаре С.И. Ожегова4 оно трактуется следующим образом: 1) сильная любовь, сильное чувственное влечение; 2) сильно выраженное чувство, воодушевленность; 3) крайнее увлечение, пристрастие к чему-нибудь; кроме того, сохраняется значение «страх, ужас». То есть наблюдается редукция, упрощение содержания понятия «страсть».
(Старинное русское «страсть» достаточно точно соответствует латинскому » passio». В латинском языке «passio» — это претерпевание, страдание, и даже страдательность, но также страсть, аффект. Однокоренные слова в европейских языках различаются смысловыми оттенками. «Pasion» у испанцев соответствует латинскому значению. Итальянцы применяют «passione» еще и для выражения страстной любви. Французы и румыны также используют термины «passion» и «passione» для характеристики, главным образом, чувственных пристрастий. «Passionant» по-румынски — это человек, способный увлечь, привести в восторг. Англичане привнесли в понимание пассионарности новый смысл: для них «passion» — это еще и вспышка гнева, взрыв чувств. У поляков это — ярость, бешенство. А для северян — голландцев, немцев, шведов, датчан, «passion» — просто увлечение).
В психологическом словаре «страсть» определяется как – «сильное, стойкое, всеохватывающее чувство, доминирующее над другими побуждениями человека и приводящее к сосредоточению на предмете страсти всех его устремлений и сил. Причины формирования страстей достаточно разнообразны — они могут определяться осознанными идейными убеждениями, исходить из телесных влечений, иметь патологическое происхождение (например, в случае паранойяльного развития личности). Страсть может быть принята, санкционирована личностью, а может осуждаться ею, переживаться как нечто нежелательное, навязчивое. Основным признаком страсти является ее действенность, слияние волевых и эмоциональных моментов. Объединение страсти и нравственного, разумного начала в человеке нередко выступает движущей силой великих дел, подвигов, открытий. Крайняя степень развития страсти – фанатизм»5.
Итак, хотя в языке и происходит редукция понятия «страсть», что вероятно отражает процессы, происходящие с нашими страстями в жизни, но к психотерапевту человек попадает все-таки в особенные моменты, уже поэтому мне кажется важным напомнить о старинном значении слова «страсть». Мы сталкиваемся в работе со страданиями, муками, маетой, мученьем, телесной болью, душевной скорбью, тоской, страхом, алчбой и безотчетным влечением. Несколько первых, возникающих по этому поводу вопросов могли бы звучать так:
1. Каково отношение к своему собственному страданию у терапевта? И шире, к своим собственным страстям.
Вроде бы странный вопрос. Как можно относиться к явлениям природы, к снегу, бурану или тайфуну? Но даже к ним можно как-то относиться, можно любить снег, восхищаться извержением вулкана, работать при этом вулканологом, и можно избегать всех этих природных буйств, переселяться в теплые края. И применительно к нашей работе вопрос об отношении к страданию в частности и к страсти вообще я нахожу совсем не праздным.
Есть, казалось бы, простой ответ на этот вопрос: «Если я не мазохист, я буду избегать страданий». Есть еще один простой ответ: «Я ценю свои прошлые страдания, потому что именно через них я чему-то научился в этой жизни». И на первый и на второй случай есть много красивых или любимых интроектов: «Жизнь не так проста, как кажется, она еще проще», «Все страсти только в книгах, жизнь проста и глупо ее усложнять» или наоборот, «Она его за муки полюбила, а он ее за состраданье к ним». Или как сказала Ахматова про сосланного Бродского: «Власти делают рыжему биографию». Ну то есть речь идет о выстраданности слова и тем самым о праве на это слово6.
«Чувствительность есть свойство, сопутствующее слабости всех органов, связанное с подвижностью диафрагмы, живостью воображения, изнеженностью нервов, — свойство, которое делает человека склонным трепетать, сочувствовать, восхищаться, пугаться, волноваться, рыдать, лишаться чувств, спешить на помощь, бежать, кричать, терять разум, преувеличивать, презирать, пренебрегать, не иметь точных представлений об истине, добре, красоте, быть несправедливым и безрассудным. Умножьте количество чувствительных душ, и в той же пропорции вы умножите всякого рода добрые и злые поступки, преувеличенные хулы и восхваления»7.
«Эмоции напоминают воду, которая пробила плотину, а страсть – поток, который делает дно все глубже и глубже. Эмоции подобны опьянению, после которого хочется спать, страсть же вроде болезни, причиной которой является плохая конституция человека или отравление». (Э.Кант8 «Антропология»).
Как и в повседневной жизни, в научных дискуссиях испокон веку противоположные взгляды на вопрос о ценности страстей:
Страсть – страдание – пафос (патос) – патология (слово о страдании) – пассивность.
«Страсти являются разными проявлениями одной основной «недостаточной мотивации». (…) Мы все подвержены воздействию страстей скорее в роли пассивных «агентов», нежели свободных», — говорит К.Наранхо9, который рассматривает страсти как динамическую основу невроза и 9 страстей кладет в основу своей характерологии (гнев-гордость-тщеславие-зависть-жадность-страх-обжорство-сладострастие-ленность).
В психоанализе страсти рассматриваются как результат того, что во взрослых людях остается много таких настроений, которые были усвоены ими в период грудного возраста.
«Совершенно ясно, что аффекты и страсти представляют собой расходование душевной силы, это не может подлежать сомнению, равно как и то, что если взять совокупность аффектов и страстей за известный период времени, то этот расход окажется огромным. Какие статьи в этом расходе могут быть признаны полезными и производительными – это уже другой вопрос; но несомненно, что многие страсти и различные аффекты оказываются настоящим расточительством, душевным мотовством, ведущим к банкротству». (Овсянико-Куликовский Д .10 ).
«При виде душевного страдания повышается не что иное, как именно это объективированное чувство самоценности; я в повышенной степени переживаю, что значит быть человеком… И средством к этому является страдание…».(Липпс Ю.11 ).
Первая позиция, связанная с избеганием страдания, в своем обостренном варианте закрывает, как известно, новые поля опыта, обрезает жизнь, создает слепые пятна в ощущении себя и не дает чувствовать других.
Вторая может привести к обесцениванию переживания. Важно все-таки «про что страдал»: это могут быть слезы по умершему близкому человеку, а могут быть слезы полученной двойки или даже четверки (если можно получать только пятерки). Конечно, все очень индивидуально и зависит от контекста, иногда оценка тоже достойна страдания. Но кажется важным, чтобы в опыте было ироничное отношение к пустому страданию по мелочам.
Осмелюсь высказать предположение, что в современной психотерапии иногда почти священное отношение к страданиям клиента совмещается с избеганием собственного страдания у психотерапевта. Как представляется, психотерапевту хорошо быть отзывчивым (возбудимым, сенситивным) и устойчивым (способным находится в поле высокого напряжения). Эти два качества не всегда уживаются в одной душе, и уж тем более не всегда присутсвуют в одной ситуации. Опыт собственного страдания в нашей работе необходим, хотя конечно, никто не может определить «сколько и как» должен выстрадать терапевт, чтобы хорошо работать. Кроме того, в жизни терапевта должна оставаться жизнь, реальная жизнь со своими переживаниями, где он – действующее лицо. Только опыта сострадания клиенту пусть даже в самых драматических ситуациях его, клиента, жизни вполне недостаточно. В этом случае все самые сильные эмоции терапевт получает только в ситуации терапии и становится от нее зависимым, а значит теряет необходимую свободу во встрече с клиентом. Кроме того, терапевтические страсти так или иначе носят игровой характер, поскольку и ситуация терапевтическая по сути своей игровая, ее можно повторить, переиграть, попробовать еще раз. И чтобы не лезть с картонным мечом на сцену чужой жизни, терапевту важно иметь свою. В то же время ясная способность (иногда можно сказать «холодная») к рефлексии, сознаванию происходящего в собственной жизни терапевта, а не только в сессии, даже в самые горячие моменты способствует той самой устойчивости.
2. Каково отношение терапевта к страданию клиента? И шире, к проявлениям его страстей.
А) Бывают ли «низменные» страсти для терапевта?
Вероятно, у каждого из нас есть свои ограничения. Я не знаю, смогла ли бы я работать с осужденным на смерть за изощренное убийство или того пуще с насильником.
Здесь хочется сказать несколько слов о характере аффекта у терапевта. Л.С. Выготский выделяет две аффективные линии при восприятии произведения искусства: соаффект и собственный аффект зрителя. Мне представляется, что при восприятии клиента терапевтом происходят близкие по природе процессы12. Соаффект – это способность терапевта к «вчуствованию», способность к переживанию «вместе» с клиентом. Собственный аффект – это аффект «по поводу», со стороны, из своей точки в пространстве. При потере одной из этих линий или чрезмерном усилении другой происходит потеря терапевтической позиции. Другими словами, если я только «чувствую вместе с клиентом», я рискую впасть в контрперенос, потерять способность самостоятельного реагирования в ситуации терапии. Если во мне говорит только «собственный» аффект, я рискую остаться совсем со стороны, у клиента будет ощущение непонятости, холодных и далеких отношений с терапевтом, мало что дающих настоящей терапии. (Выготский еще называл это «эфектом содержания и аффектом формы»).
С другой стороны, в терапии происходит сложное взаимодействие и преобразование различных эмоциональных потоков и у терапевта и у клиента, включающее широкий (это естественно очень индивидуально варьируется) спектр разнообразных чувств, вполне не только «добрых». Хочется верить, что в терапии происходит «посредством действия, а не рассказа, совершающееся благодяря страданию и страху (и не только им – И.З.), очищение подобных аффектов» (Аристотель13 ), что гнев в терапии – это не то, после чего берут в руки оружие, ревность в терапии – это не то, после чего травят соперника, и т.д. Это преображенное, выраженное в образах, чувство, и уже потому – другое. Поэтому спектр терапевтического восприятия разнообразных чувств клиента шире, чем в жизни. То, что меня оттолкнуло бы, заставило избегать встреч, в терапии может стать полем совместной вполне вдохновляющей работы.
Б) Когда терапевта пугают страсти клиента?
Речь идет сейчас не о естественном страхе, испытываемом терапевтом в сопереживании, который может быть осознан, выражен или не выражен в зависимости от ситуации, и не становится препятствием или тормозом в терапии. Речь идет о страхе, мешающем терапии. И тут, как представляется, страсти клиента пугают терапевта тогда, когда по каким-то причинам у него (терапевта) нарушается балланс соаффекта и собственного аффекта. Условно говоря, если клиент, испытывая сильный страх, начинает пугать терапевта, естественная терапевтическая реакция состоит в том, чтобы испугаться, но не фатально, или, точнее говоря, не только испугаться, но успеть испытать еще какую-то эмоцию от того, как клиент пугается и как он пугает. Такую реакцию я назвала «естественной» уже потому, что в терапевтической ситуации присутствует условность, игра, рассказ про ужас – это уже не только ужас, но и рассказ, на него терапевт тоже каким-то образом реагирует. Но если клиентский страх терапевту слишком страшен, он не успевает или не может по разным причинам отреагировать на «рассказ», на форму высказывания клиента «про ужас», тогда у терапевта остается много вариантов контакта с переживанием (а заодно и с клиентом) избежать. Приведем примеры возможных избеганий:
Терапевт «может» сказать: «Нет, это совсем не страшно, это все ты сам себе придумал». Или что-нибудь в этом роде. Но более тонко (и к сожалению более часто) будет перескочить из своего страха в какое-нибудь другое чувство сразу: например, рассердиться на клиента или обидеться, пропустив при этом первичное свое чувство страха. Выразить ему свою агрессию или обиду, оставляя его с его страхом, не вступая в реальный контакт.
Или ваш клиент, сетуя на очень медленное продвижение, низкую эффективность терапии, в другом месте сессии сочно фантазирует, как он расправится с человеком, не оправдавшим его ожиданий. Можно, конечно, рассказать в этот момент клиенту, что движение в терапии редко идет по неуклонной линии прогресса, что неизбежны кризисы и разочарования, что это часть процесса, что он (клиент) никогда не возьмет на себя ответственность за свою жизнь, не разочаровавшись в силах терапевта мудро все за него решать и т.д. На какое-то время это может быть даже заглушит страх терапевта разочаровать клиента, страх, что клиент уйдет, покончит жизнь самоубийством, подаст на него в суд, убьет кого-нибудь или просто терапевта. Объяснения утешат, но ненадолго. Уже потому, что объясняя мы остаемся «мудрыми» и только отдвигаем страшный момент «разоблачения Гудвина». Прямые слова о собственном несовершенстве тоже не всегда помогают, клиент может их просто не услышать или отнести к кокетству терапевта. Клиентам бывает проще поверить в лень, недостаточно упорную работу терапевта над их проблемами, чем в неизбежность принятия собственных решений. Но если при этом у терапевта остается возможность отреагировать на форму высказывания клиента («Как сочно вы рассказываете о мести» или «как вы оживаете, описывая детали самоубийства») и даже предложить клиенту развернуть ее (с помощью второго стула или какими-то другими средствами), у клиента появляется больше возможностей увидеть «себя в мести» или «себя в ужасе», и соответственно взять на себя ответственность за собственное переживание. И тогда слова терапевта: «Я боюсь, что вы меня убьете, подкараулив после работы», «Я боюсь, что вы все-таки покончите жизнь самоубийством, как обещаете мне на каждой сессии, и мне потом придется всю жизнь думать, все ли я правильно сделал тут с вами», «Я боюсь вашей мести, когда терапия кажется вам неэффективной», «Я боюсь, что вы подадите на меня в суд, и мне потом долго придется с ними разбираться, а я мало что в этом понимаю», — могут зазвучать как отклик из более равной позиции. Выходя из иерархической заданности, терапевт получает большую свободу возможностей. Но сам по себе этот выход иногда превращается в сложную творческую задачу, клиенты неохотно отпускают нас из роли сильных, мудрых, знающих, имеющих опыт и право.
В) Когда терапевта восхищают страсти клиента?
Наши клиенты иногда так удивительно чувствуют, так классно это выражают, что впору восхититься тем, как у них это все происходит. Само по себе это не проблема, это радует, расцвечивает терапевтическую жизнь, как и жизнь вообще. Надеюсь, что у нас часто, разнообразно и по разным поводам будут возникать возможности восхищаться нашими клиентами и выражать им свое восхищение. Но иногда, когда к примеру, страсти клиента, которые восхищают терапевта, на него же терапевта и направлены (скажем, в сильном эротическом переносе), ситуация совсем не так проста и прекрасна. Соблазн превратиться в прекрасного принца или принцессу из снов клиента бывает очень велик, тем более что в жизни любви редко бывает слишком много. И если терапевт теряет способность видеть ситуацию со стороны, предпочитает забыться в страсти, то неплохо-таки помнить, что терапия в этой точке кончается. Об этом сказано и написано много от З.Фрейда до И.Ялома, добавлю только, что вероятно здесь происходит тот же дисбаланс аффектов (соаффекта и собственного аффекта), о котором мы говорили чуть выше. При размышлениях над этим возникает следующий вопрос, уж совсем пока для меня открытый:
Может ли любовь к истине, как к наиболее точно названной реальности, соблазнять больше, чем любовь к иллюзии?
Я думаю, что терапевт почти всегда знает, что «любовь» к нему клиента наполнена массой иллюзий, что по сути, это увлечение собственными иллюзиями, и если в жизни каждый имеет право на свои иллюзии, в терапии есть некоторая «ответственность за реальность». Ответственность эта распределяется неравномерно и только, может быть, к концу терапии достигает распределения 50 на 50. Так что соблазнение иллюзией связано с потерей профессиональной позиции, терапет страновится либо «хреновым» терапевтом в разных значениях этого слова (во всяком случае для конкретного клиента) либо перестает им быть.
3 Что же мы со всем этим делаем в терапии?
Работаем, чувствуем, живем. В гештальт-терапии один из основных помощников во встрече со страстями – образ. Одно из значений слова «гештальт» — образ. «Образ жизни», «образ мысли», «образ самого себя», «образ действия», «телесный образ», «образ фантазии», «твой образ»14, «образ» во всех значениях этого многообразного слова. Образ помогает встретиться с хаосом жизни и не утонуть сразу. Образ и символ имеют разные, а иногда противоположные значения. Фрейд пытался осмыслить жизнь через символ, а Перлз через образ. В работе со страстями помогает их воплощенность в ясный телесный, зрительный или любой другой образ. Образ становится тем почти материальным предметом, встречаясь с которым клиент может обрести большую ясность и по отношению к собственным желаниям, и по отношению к собственным действиям. Одна из задач гештальт-терапевта – поддержка выражения страсти, воплощения ее в ясный образ, а затем принятие этого образа, что само по себе иногда не менее сложно.
Позвольте сослаться на авторитеты.«Всякая наша эмоция имеет не только телесное выражение, но и выражение душевное, всякое чувство «воплощается, фиксируется в какой-либо идее, как это лучше всего видно в бреде преследования».(Рибо15 ) Эмоция выражается не столько в мимических, пантомимических, секреторных, соматических реакциях нашего организма, но она нуждается в известном выражении посредством нашей фантазии. Так больной, страдающий навязчивым страхом, в сущности говоря,болен чувством, у него беспричинный страх, и уже потом его фантазия подсказывает ему, что все за ним гонятся и его преследуют. (Выготский16 ) Зеньковский назвал это законом двойного выражения чувств: всякая эмоция обслуживается воображением и сказывается в целом ряде фантастических представлений и образов, которые служат как бы вторым выражением. (…) Чувство и фантазия являются не двумя друг от друга отделенными процессами, но в сущности, одним и тем же процессом, и мы вправе смотреть на фантазию, как на центральное выражение эмоциональной реакции17. Дальше встает вопрос о том, под влиянием деятельности фантазии усиливается или, наоборот, ослабевает внешнее выражение чувств. Выготский считает, что оба варианта возможны – один, когда образы фантазии или представления являются внутренними раздражителями для нашей новой реакции, тогда они усиливают основную реакцию. Так, яркое представление усиливает наше любовное возбуждение, но в этом случае фантазия не является выражением той эмоции, которую она усиливает, а является разрядом предшествующей эмоции18. Там же, где эмоция находит свое разрешение в образах фантазии, там, конечно, это фантазирование ослабляет реальное проявление эмоции, и если мы изжили наш гнев в нашей фантазии, он в наружном проявлении скажется чрезвычайно слабо. Закон однополюсной траты энергии при эмоциях: при эмоции трата энергии совершается преимущественно на одном из двух полюсов – или на периферии или в центре – и усиление деятельности на одном полюсе ведет немедленно же к ослаблению его на другом.
А) Распаляет ли страсти терапия или усмиряет их?
После сказанного выше естественно предположить, что в терапии присутствуют оба процесса: и усиление и ослабление страстных эмоциональных реакций. Если изначально мы сталкиваемся в терапии с ситуацией «разделенности эмоциональных и волевых моментов», другими словами, если то, что «я делаю» и «чего я хочу» (при чем желания либо смутны, либо подавлены, погребены под «нужно» и «должен», либо вообще отсутствуют) очень далеки от того, «что я чувствую» (что может связываться с депрессивными переживаниями, неудовлетворенностью собой, «серостью жизни», «комплексом неполноценности», общим параличом воли и недостатком творческой активности), механическая активность становится единственным двигателем и никак не подкрепляется эмоционально. Человек начинает чувствовать себя «рабом ситуации» мелким и тоскливо-холодным19. В терапии тактически идет повышение ценностных установок. Терапевт набивает цену жизни, как чему-то, что достойно творческих усилий. До этого почти все наши «что ты чувствуешь?», «чего ты хочешь?» и т.д. могут потерпеть фиаско: «я ничего не хочу», «я ничего не чувствую», «я делаю то, что делал всегда» — возможные ответы на наши обращения. Понятно, что с каждым конкретным клиентом этот процесс приобретает какие-то свои формы: иногда важно бывает поделиться своим опытом обесценивания и возвращения ценности жизни, иногда полезным становится воспоминание о том, что было ценным еще недавно для самого клиента, иногда решающим становится опыт выживания в стрессовой ситуации, когда задача выживания обнажает сама по себе ценность жизни (на этом основаны разнообразные программы реабилитации «путешествие через пустыню»). Только затем становится возможным более активное обращение к желаниям («чего я хочу»), это не значит, конечно, что обращение к чувствам и действиям отсутствуют. Обращения к «ид» могут продолжать натыкаться на глухое отторжение: «Ничего не чувствую, тоска, серость». «Серость» — сама по себе метафора, но из этой метафоры выйти к живому образу бывает крайне сложно, и сознавание своих чувств в этих случаях в первый период терапии редко дает энергетический всплеск. При обращении к «эго» мы, конечно, тоже сталкиваемся с «ничего не хочу», «хочу лечь и умереть», но по опыту, воплотить «хочу лечь» или «хочу забиться в темный угол» прямо в пространстве сессии и получить при этом некоторое энергетическое изменение более реально, чем вырастить зеленый куст из метафоры «серость». Т.е тактически идет работа с оживлением, вместо механической порабощенности жизненной ситуацией, должна пробудиться самостоятельная творческая активность, способность реализовывать возможности поля. В этом смысле возможность «лечь», «спрятаться» во время сессии вполне парадоксальна, это метафорический отказ от реализации терапевтического потенциала сессии: лечь, вроде как, удобнее дома на диван, спрятаться – тоже. Но в то же время эта метафора отражает самостоятельную человеческую позицию клиента по отношению к миру и возможностям, которые он если не предлагает, то уж точно имеет. Эмоционально в работе терапевта в это время большую роль играет «соаффект» по сравнению с «собственным аффектом», происходит как бы «оживление» поначалу даже на эмоциональном ресурсе самого терапевта. Соответственно, при успешной терапии страстность клиента усиливается, он приобретает способность воплощать свои желания, воля и чувство могут звучать вместе, а не уступать друг другу место на сцене душевной жизни.
Если же то, что «я делаю» плотно связано с тем, что «я чувствую» (при чем чувства прохо дифференцируются, воспринимаются в основном как тревога), но отделено от того, «что я хочу», от реального осознавания своих потребностей (как это происходит, например, когда мы сталкиваемся с зависимостями, «уплощение сферы желаний» — хочу любви – иду ем, хочу признания – иду ем, пугаюсь – тоже иду ем), тогда поначалу страстная патологическая связка должна быть сначала разрушена, в пищевой метафоре нам нужно разоблачить еду как единственную претендентку на страсть и вернуть эмоциональные силы любви, желанию признания, страху и т.д. Общая «тревога» как всемирный хаос должна породить разнообразные, более дифференцированные и адресные переживания. Это тот случай, про который Наранхо пишет: «Даже если нельзя сказать, что оправданное моралью действие имеет целью отвлечь от мыслей о сексуальности и гневного бунта, мы можем сказать, что именно намерение, т.е. расположенность к действию, служит тому, чтобы эмоции оставались неосознанными». Тактически в терапии поначалу идет опора на намерение освободиться от зависимости, и только потом возможно большее обращение к «ид» («что я чувствую»), что само по себе снижает накал «алчбы», в перспективе дает возможность более ясного выхода к тому, «чего я хочу». Эмоционально в работе терапевта поначалу большую роль играет «собственный аффект» по сравнению с «соаффектом», способность терапевта к самостоятельному, независимому, стороннему взгляду. Соответственно, в этом случае при успешной терапии пристрастие к предмету зависимости утихает, уступая место разнообразию желаний и избирательности их воплощения.
Таким образом, получается на первый взгляд, что в работе с одними проблемами и состояниями «страстность» клиента развивается, а при работе с другими – утихает. Но если мы приглядимся к проблеме внимательнее, увидим, что это не совсем так, потому что имеются ввиду разные значения понятия «страстность». Развивается, вспоминается душой то, что можно еще назвать «воодушевленностью», «душевным порывом к чему-то», а стихает то, что ближе к понятиям «алчба, пристрастие, необузданное влечение». Поэтому точнее, как кажется, было бы сказать, что в обоих случаях развивается способность к дифференцированному чувствованию жизни.
Б) Гештальт-терапия сначала называлась терапией сосредоточением, но если мы сталкиваемся в терапии с действенной страстью, «слиянием волевых и эмоциональных моментов», (в работе с зависимостями, например) что мы можем противопоставить этой страстной сосредоточенности?
Не в традициях гештальт-терапии вообще что-то чему-то противопоставлять, нет «хорошей полярности» — обе полярности лишь часть чего-то большего. Основной способ работы с сопротивлением здесь – это его поддержка. Но сложность состоит в том, что в случае зависимого подчинения страсти фон не просто обесценен, его как будто бы нет вообще, предмет страсти как будто существует в безвоздушном разряженном пространстве (на первом этипе работы с зависимостью иногда помогает только молитва, обращение к Высшей силе, существующей вне контекста или над контекстом). И задача может состоять в возвращении предмета страсти в мир, в естественный контекст. В случае с наркотиком это может быть реальное возвращение в жизнь или полный отрыв, ведущий к смерти. А в конкретном контексте наркотик – просто вещество, имеющее конкретные физические характеристики и свойства (порошок можно рассыпать, дунуть – разлетится, жидкость – разлить, размазать и т.д.), которое в одних случаях может облегчать тяжелые страдания (например, у больных в терминальной стадии рака), в других – подменять собой предметы разнообразных потребностей от простого голода до самоактуализации. Терапевтическая работа здесь – это подтверждение и принятие силы страсти (иногда ее власти), возможно более полное выражение ее (при этом важна дифференциация: отличать желание выпить от голода, усталости или одиночества, например) и дальше определение контекста, иногда – поиски контекста.
Страсть бывает чрезвычайно обаятельна, с одной стороны, потому что в ней много природной силы, как в цунами, с другой стороны, потому что на рассредоточение, способность видеть шире, нужно не меньше сил, чем на сосредоточение в страсти и при этом волевой момент (особенно поначалу) как будто бы совсем произвольный, насильственный, иногда кажущийся абсурдным (как будто я говорю: «Я люблю именно этого мужчину и только его одного!» — А мне отвечают: «Но посмотри, как много на свете еще других!»). И наконец, страсть затмевает все выборы, не нужно ничего выбирать, прислушиваться ни к каким нюансам и сомнениям, разбираться со смыслами жизни, страсть – ведет, освобождаясь от страстной сосредоточенности пусть даже на наркотике, оказываешься лицом к лицу со всеми этими вопросами, не имеющими.
Нам нечего противопоставить наркотику наркомана или рулетке игрока, кроме собственной любви к жизни.
В) Где грань, отделяющая «здоровую» страсть от патологической. Здоровую способность сосредоточиться и воплотить свое желание от страстного сужения мира в одной точке.
Есть, как представляется несколько простых критериев, с которыми потом трудно обходиться.
1) «Здоровая» страсть может быть удовлетворена. Я сделал – и доволен. Это говорит о том, что здесь разряжался эмоциональный заряд именно с этой ситуацией связанный. Если же на выходе мы видим ту яму, которую чем больше роешь, тем глубже и ненасытнее она становится, то вероятно, в страсти замешаны следы других недочувствованных ситуаций, недоделанных дел.
2) Нет «сужения мира», когда от всего многоголосья окружающего мне остается лишь «одна, но пламенная страсть».
3) При «здоровой страстности» сохраняется способность фантазировать, создавать сочные образы в разных жизненных сферах, не соприкасающихся с объектом страсти, более того, как будто творческих сил прибавляется (когда я люблю, я и работаю интереснее).
4) В «здоровой страсти» нет страха отвлечься от предмета, я не должна 24 часа в сутки его контролировать. Если это человек – то какое-то время я вполне могу прожить без него и для меня не смертельно, что какое-то время он может прожить без меня.
5) Нет интеллектуального отупения, когда повторение и банальность овладевают жизнью.
6) Нет рабской системы иллюзий, которая поддерживает хрупкий мир, который иначе рухнет.
7) При патологической страсти жизнь дает знаки, сигналы в виде неожиданных провалов и проколов: потери большой суммы денег, выпадения из памяти серьезного дела и т.д.
Г) Встречаем ли мы в зависимости страстность? Является ли зависимый человек страстным?
Серьезное, глубокое и детальное обсуждение – отдельный вопрос. Но опыт подсказывает общий ответ, важный сегодня для нашей темы: зависимый – скорее пристрастный, чем страстный. Если мы говорим о страсти, имея ввиду глубину, разнообразие, яркость и стойкость самого переживания. Зависимость связана скорее с эмоциональной уплощенностью, неспособностью к глубокому чувству, это более поверхностная раздражительность и душевная холодность при внешних взрывах.
Д) Что такое «проживание» страсти? Возможен ли опыт «обращения» со страстями (своими и клиента)? Как сделать страсти зрячими (а не «слепыми»)?
Наверное, это вопрос вопросов. На эту тему написаны целые трактаты, религиозные системы пытаюстся выстроить непротиворечивые ответы на эти вопросы. Поэтому, по возможности избегая всякого теоретизирования на эту тему, попробую сделать нечто невозможное – выписать собственный краткий рецепт обращения со страстями в процессе работы.
Начнем с конца, с последнего «подвопроса»: моя нехитрая мысль состоит в том, что страсти должны быть видны и увидены в терапии. По старой поговорке «Любовь зла, полюбишь и козла» — этот козел должен проблеять в терапии, чувство к нему должно быть выражено в ясно видимых формах, а дальше клиент сам решает, что ему делать с этой козлиной реальностью, а терапевт остается рядом. Любой наполеоновский замысел достоин того, чтобы встретиться с реальностью в терапевтической ситуации и если не все они в результате осуществлятся – значит так тому и быть, а может быть, некоторое только наберут силу и ясную устремленность. Что же способствует этому процессу в терапии.
Во-первых, сохранение ясного видения, слуха, обоняния, осязания и т.д. («Мир, который всегда под рукой»20 ). По отношению к клиенту, это внимание к его миру, его «сужениям» и «расширениям». Фактически на это направлены все терапевтические побуждения к осознаванию сиюминутных действий, впечатлений, запахов, звуков. Это то, что касается «внешней сферы» как для клиента, так и для терапевта. Но если для терапевта сохранение внимания к «внешней сфере» событитий важно на протяжении всей сессии (и всей терапии), то для клиента это по-видимому, процесс пульсирующий: в процессе выражения сильного чувства клиент может не сознавать окружающую реальность и задача терапевта не дать реальности потеряться совсем, не дать глазам клиента окончательно закрыться.
Во-вторых, это сознавание и выражение того, что со мной происходит. Я оставляю себе только тот накал, при котором могу оставаться целой. Выражая чувство я тем самым выхожу из-под полной его власти, оно становится определенной частью моего эмоционального спектра: «я люблю, но не только», «я боюсь, но не только», «я стыжусь, но не только». Невыраженное чувство имеет больше шансов властвовать надо мной. Выражение клиентом чувств отличается от выражения ощущений (ощущение сухости во рту или дрожи в коленках может быть частью комплекса под названием «страх», например, ощущения можно пробовать усилить, следствием чего часто становится осознание чувства и выход из-под его безраздельной власти). Это касается и работы со страхами, когда из части собственного страха клиент превращается в человека, у которого есть кроме страха «что-то еще». Если в первом пункте мы говорили о внимании к внешней сфере, то здесь речь идет о внимании к «внутренней сфере».
В-третьих, это не «расплескивание всего до нуля», потому что тогда нет ресурса ни для работы, ни для радостной жизни. Выражение чувства – реплика в диалоге, и если я не вижу, кому я говорю о своем чувстве и в какой момент, то все это рискует превратиться в простое «отыгрывание». В выражении даже самой сильной страсти есть некая кульминационная точка, и если мы просто ждем, когда чувство выразится и исчерпает само себя, энергии на встречу с реальностью уже не остается: иногда так бывает, что человек «проорался и уснул» — и хотя чувство нашло свое полное выражение, это вряд ли будет иметь большой смысл для терапии. Третий пункт относится к «пространству между» терапевтром и клиентом. Даже в минуты самых сильных страстных проявлений клиент не должен оставаться один (хотя ему самому иногда может этого хотеться) уже потому, что на индивидуальной сессии как правило присутствуют двое, у него должна быть возможность отразиться в другом человеке со всем своим искаженным сильными переживаниями или наоборот преображенным сильными переживаниями существом.
В-четвертых, как для терапевта, так и для клиента должна оставаться возможность творческого самовыражения. Это тоже свойство «пространства между»: в терапии оно все время располагает к выборам и необходимости творческих решений. Если вдруг появляется ощущение жесткой заданности, единственной возможности, значит подступает слепота. Помните детские задачки про мух («на столе сидело 3 мухи, одну муху убили, сколько мух осталось?») или страусов, их можно было решить только выйдя из жестко запрограммированной логики в более разнообразное пространство возможностей, и тогда количество и качество решений сразу множится («муха осталась одна, так как две другие улетели», «мух в живых осталось две, так как погибла одна»). В терапии для клиента есть специально выделенное время и пространство, чтобы воплотиться, найти свое решение, свой способ творчества, найти «что-то еще».
В-пятых, нужно не пропустить точку, когда чувству пора перейти в намерение. Страсть киснет, не воплотившись. Есть опасность как для терапевта, так и для клиента «закопаться в собственном пупке». Можно по сотому разу спрашивать клиента, что он чувствует, и никуда не двигаться. Можно проходить 105 группу в качестве клиента и ничего не менять в своей жизни.
4 Что мы делаем, когда проявлений страстей клиента нет, но и жизни как будто тоже нет, когда поверхность душевной жизни гладка и темна, как вода на болоте?
У клиента и терапевта может от природы быть разный «уровень страстности», разный опыт чувствования. Отчасти, как кажется, это вопрос о пресловутой «вненаходимости» терапевта. Свои «домашние» страсти вроде как лучше оставлять на пороге встречи с клиентом. Другое дело, если внутри сессии терапевту становится скучно и он сознает, что эта скука имеет прямое отношение к тому, что сейчас непосредственно происходит в сессии. Тогда он может говорить о своей скуке с той долей страсти, которая у него при этом рождается.
5 Что такое «страстный терапевт»? И к кому он в этом случае ближе, к «страстнику» или «страстотерпцу»?
Это сложный вопрос, каждый каким-то образом отвечает на него за себя в профессии. Мы близко ходим от корысти, алчности, жажды власти, вожделения, гнева и много чего такого. Страсти захватывают, и далеко не всегда хочется быть «зрячим». С другой стороны, развивая сознавание, мы развиваем и способность «холодного» видения, осознанное чувство меняется по накалу (чаще в сторону ослабевания). И дальше вопрос, обращенный к себе может касаться того, что мы делаем или не делаем, осознавая собственную алчность, вожделение и т.д. Насколько терапевт способен проживать стыд и вину, не освобождаться от них, а как раз проживать. Хочется сказать, что «страстный терапевт» — это терапевт, способный выносить высокий накал эмоционального напряжения, переживать рядом с клиентом мощные взлеты и падения, но не фанатик, в том числе не фанатик собственного дела. Если психотерапевт становится фанатиком терапии, ему может начать казаться, что в его услугах нуждается весь мир, что нет человека, который в той или иной ситуации не пришел бы к нему за профессиональной помощью. Его собственная жизнь вне терапии меркнет, теряет цвет и смысл.
А) Бывает ли «холодная страстность»? Вопрос о соотношении эмоциональности и страстности.
Можно теоретически предположить, что там, где волевой момент давно и основательно подавил эмоциональный, там где забыто то, что изначально волновало, там где нет проживания непосредственно возникающих в ситуации отношений, а есть «остатки прежних переживаний», возможна «холодная страсть». «Жажда власти», «страсть обладания», «холодная страсть в глазах убийцы» (простите за выражение). (Ставрогин и Жан Габен??) В самих формулировках есть противоречие: «жажда власти» — это значит я «чего хочу?» и «что чувствую?». При физиологической жажде можно описать ощущения, при «жажде власти» — вряд ли, но вероятно и в жажде власти есть следы предшествующих аффектов, не нашедших разрешения .
С другой стороны, в настоящей страстности внешний эмоциональный момент может быть чрезвычайно редуцирован. Но сила чувства при этом не ослабляется, а скорее наоборот, нет «расплескивания», «отыгрывания» и за счет этого происходит усиление волевого момента страстности. Разница состоит в том, что в этом случае чувство связано с конкретной ситуацией, к ней и относится. Здесь «холодная страстность» — «оскюморон», полезный для терапевта. Чтобы в терапевтической ситуации что-то сделать, а не превращать нашу работу в пустую болтовню, в терапевте должна быть накоплена достаточная энергия (в клиенте тоже). Страсти терапевта – умные страсти. Терапевту неплохо бы уметь выражать свои чувства клиенту. Но это утверждение превращается в обычный интроект, если выражение чувств превращается для терапевта чуть ли не в единственный способ обращения с ними. Терапевту так же неплохо бы уметь не выражать свои чувства клиенту сразу как только они возникли, хотя сознавать их при этом все равно полезно. Выражение чувств не является целью терапии, оно есть важный шаг в установлении и развитии контакта. Но иногда оно превращается в способ немедленной «разрядки» любого возникающего ощущения, и тогда о каком контакте может идти речь? О контакте с душевной пустотой? Терапевту неплохо уметь выносить, переживать, не расплескивать нарастающее напряжение эмоции, в терапии она – инструмент, который может быть тупым или острым. Не нужно путать чувствительность и страстность.
«Чувствительный человек теряет ее (голову) при малейшей неожиданности (…). Заполните хоть весь зрительный зал этими плаксами, но на сцену не выпускайте ни одного. (…) Чувствительность — всегда признак общей слабости натуры. Одна лишь слеза мужчины, настоящего мужчины, нас трогает больше, чем бурные рыдания женщины.
Чувствительный человек слишком зависит от собственной диафрагмы, чтобы стать великим королем, великим политиком, великим судьей, справедливым человеком, проницательным наблюдателем, а следовательно, превосходным подражателем природы, если только он не умеет забывать себя, отвлекаться от самого себя, создавать силой своего воображения и удерживать в своей цепкой памяти видения, служившие ему образцами; но тогда действует уже не он, им владеет дух другого существа». (Д.Дидро. «Парадокс об актере»21 ).
Страсть – это вечный порыв к целостности. Положить все яйца в одну корзину, отдаться полностью, исполнить то, во что веришь и чего хочешь. Осторожность дробит мир: «Доверяй, но проверяй, береженого Бог бережет» — все это сохраняет двойственность. Но чтобы отдаться страсти полностью тоже нужно быть слегка слепым, а значит, уже не целостным. Человек меньше Мира, но мерит Мир собой, дробится, чтобы охватить большую Целостность. Для того, чтобы что-то сделать, нужно уметь от этой Целостностности отвлечься и впасть в страсть, но не забываться навсегда, иначе – фанатизм и слепота.
Перефразируя того же Дидро, хочется закончить на обнадеживающей мысли, что проживая свои страсти, мы становимся свободнее и совершенствуемся в профессии. Итак: «Вообразите, что вы клиент (поэт); вы ищете терапевта (ставите пьесу), вы свободны выбирать либо терапевтов (актеров), обладающих глубоким суждением и холодной головой, либо терапевтов (актеров) с повышенной чувствительностью. Но прежде чем вы что—либо решили, позвольте задать вам один вопрос: в каком возрасте становятся великим терапевтом (актером)? Тогда ли, когда человек полон огня, когда кровь кипит в жилах, когда от легчайшего толчка все существо приходит в бурное волнение и ум воспламеняется от малейшей искры? Мне кажется, что нет. Тот, кого природа отметила печатью терапевта (актера), достигает превосходства в своем искусстве лишь после того, как приобретен долголетний опыт, когда жар страстей остыл, голова спокойна и душа ясна. Лучшее вино, пока не перебродит, кисло и терпко; лишь долго пробыв в бочке, становится оно благородным».
Опубликовано в Гештальт Гештальтов-2007 №2
Мы знаем или смутно чувствуем, что страсть может вывести из равновесия, привести в экстаз, заставить человека отказаться от очень многого, включая себя самого, словом, означает прыжок в беспредельное и бескрайнее. Поэтому истинная страсть чрезвычайно редка. Как умная хозяйка, мы опасаемся класть все яйца в одну корзину. Мы стараемся быть сдержанными и всегда готовы к отступлению, подчиняясь, по-возможности, инстинкту самосохранения. Мы, естественно, боимся потерять себя в другом человеке. Поэтому с любовью происходит то же, что и с образованием, и с психоанализом: все считают себя знатоками, но истинных – немного. К.Хорни2.
В великой комедии, — в комедии жизни — все пылкие души находятся на сцене, все гениальные люди занимают партер. Первых зовут безумцами; вторых, копирующих их безумства, зовут мудрецами. Мудрец подмечает смешное во множестве различных персонажей и, запечатлев его, вызывает в вас смех и над несносными чудаками, чьей жертвою вы стали и над вами самим. Мудрец наблюдал за вами и набрасывал забавное изображение и чудака, и ваших терзаний. Д.Дидро «Парадокс об актере».
Страсти по гештальту. В первичном, библейском значении этого выражения – это «Страсти в изложении, в версии кого-либо» (страсти по Матфею – изложение страданий Иисуса апостолом Матфеем), сегодня это выражение часто трактуется не очень грамотно (это не «про» Матфея). Скорее речь идет о взглядах на проблемы страстей гештальт-терапевтов, говорить о целостном представлении о страсти в гештальттерапии тоже, кажется, преждевремменно.
Сейчас в обыденном словоупотреблении страстью стали называть любое сильное желание и даже слабое влечение. Но раньше, в старину, страсть значила иное. Из словаря В.И. Даля узнаем, что «страсть»3 — это: 1) страданье, муки, маета, мученье, телесная боль, душевная скорбь, тоска, а также подвиг, сознательное принятие на себя тяготы, мученичества; 2) страх, испуг, ужас, боязнь; 3) бездна, пропасть, тьма, множество, сила…; 4) душевный порыв к чему-то, нравственная жажда, жажданье, алчба, безотчетное влечение, необузданное, неразумное хотение. Поэтому страстный русский человек XIX века мог быть или «страстником», то есть необузданным, порабощенным страстями грешником, распутным, развратным человеком, или, наоборот, «страстотерпцем», — святым мучеником, подвижником.
В современном русском языке слово «страсть» имеет уже иные значения. Так, в толковом словаре С.И. Ожегова4 оно трактуется следующим образом: 1) сильная любовь, сильное чувственное влечение; 2) сильно выраженное чувство, воодушевленность; 3) крайнее увлечение, пристрастие к чему-нибудь; кроме того, сохраняется значение «страх, ужас». То есть наблюдается редукция, упрощение содержания понятия «страсть».
(Старинное русское «страсть» достаточно точно соответствует латинскому » passio». В латинском языке «passio» — это претерпевание, страдание, и даже страдательность, но также страсть, аффект. Однокоренные слова в европейских языках различаются смысловыми оттенками. «Pasion» у испанцев соответствует латинскому значению. Итальянцы применяют «passione» еще и для выражения страстной любви. Французы и румыны также используют термины «passion» и «passione» для характеристики, главным образом, чувственных пристрастий. «Passionant» по-румынски — это человек, способный увлечь, привести в восторг. Англичане привнесли в понимание пассионарности новый смысл: для них «passion» — это еще и вспышка гнева, взрыв чувств. У поляков это — ярость, бешенство. А для северян — голландцев, немцев, шведов, датчан, «passion» — просто увлечение).
В психологическом словаре «страсть» определяется как – «сильное, стойкое, всеохватывающее чувство, доминирующее над другими побуждениями человека и приводящее к сосредоточению на предмете страсти всех его устремлений и сил. Причины формирования страстей достаточно разнообразны — они могут определяться осознанными идейными убеждениями, исходить из телесных влечений, иметь патологическое происхождение (например, в случае паранойяльного развития личности). Страсть может быть принята, санкционирована личностью, а может осуждаться ею, переживаться как нечто нежелательное, навязчивое. Основным признаком страсти является ее действенность, слияние волевых и эмоциональных моментов. Объединение страсти и нравственного, разумного начала в человеке нередко выступает движущей силой великих дел, подвигов, открытий. Крайняя степень развития страсти – фанатизм»5.
Итак, хотя в языке и происходит редукция понятия «страсть», что вероятно отражает процессы, происходящие с нашими страстями в жизни, но к психотерапевту человек попадает все-таки в особенные моменты, уже поэтому мне кажется важным напомнить о старинном значении слова «страсть». Мы сталкиваемся в работе со страданиями, муками, маетой, мученьем, телесной болью, душевной скорбью, тоской, страхом, алчбой и безотчетным влечением. Несколько первых, возникающих по этому поводу вопросов могли бы звучать так:
1. Каково отношение к своему собственному страданию у терапевта? И шире, к своим собственным страстям.
Вроде бы странный вопрос. Как можно относиться к явлениям природы, к снегу, бурану или тайфуну? Но даже к ним можно как-то относиться, можно любить снег, восхищаться извержением вулкана, работать при этом вулканологом, и можно избегать всех этих природных буйств, переселяться в теплые края. И применительно к нашей работе вопрос об отношении к страданию в частности и к страсти вообще я нахожу совсем не праздным.
Есть, казалось бы, простой ответ на этот вопрос: «Если я не мазохист, я буду избегать страданий». Есть еще один простой ответ: «Я ценю свои прошлые страдания, потому что именно через них я чему-то научился в этой жизни». И на первый и на второй случай есть много красивых или любимых интроектов: «Жизнь не так проста, как кажется, она еще проще», «Все страсти только в книгах, жизнь проста и глупо ее усложнять» или наоборот, «Она его за муки полюбила, а он ее за состраданье к ним». Или как сказала Ахматова про сосланного Бродского: «Власти делают рыжему биографию». Ну то есть речь идет о выстраданности слова и тем самым о праве на это слово6.
«Чувствительность есть свойство, сопутствующее слабости всех органов, связанное с подвижностью диафрагмы, живостью воображения, изнеженностью нервов, — свойство, которое делает человека склонным трепетать, сочувствовать, восхищаться, пугаться, волноваться, рыдать, лишаться чувств, спешить на помощь, бежать, кричать, терять разум, преувеличивать, презирать, пренебрегать, не иметь точных представлений об истине, добре, красоте, быть несправедливым и безрассудным. Умножьте количество чувствительных душ, и в той же пропорции вы умножите всякого рода добрые и злые поступки, преувеличенные хулы и восхваления»7.
«Эмоции напоминают воду, которая пробила плотину, а страсть – поток, который делает дно все глубже и глубже. Эмоции подобны опьянению, после которого хочется спать, страсть же вроде болезни, причиной которой является плохая конституция человека или отравление». (Э.Кант8 «Антропология»).
Как и в повседневной жизни, в научных дискуссиях испокон веку противоположные взгляды на вопрос о ценности страстей:
Страсть – страдание – пафос (патос) – патология (слово о страдании) – пассивность.
«Страсти являются разными проявлениями одной основной «недостаточной мотивации». (…) Мы все подвержены воздействию страстей скорее в роли пассивных «агентов», нежели свободных», — говорит К.Наранхо9, который рассматривает страсти как динамическую основу невроза и 9 страстей кладет в основу своей характерологии (гнев-гордость-тщеславие-зависть-жадность-страх-обжорство-сладострастие-ленность).
В психоанализе страсти рассматриваются как результат того, что во взрослых людях остается много таких настроений, которые были усвоены ими в период грудного возраста.
«Совершенно ясно, что аффекты и страсти представляют собой расходование душевной силы, это не может подлежать сомнению, равно как и то, что если взять совокупность аффектов и страстей за известный период времени, то этот расход окажется огромным. Какие статьи в этом расходе могут быть признаны полезными и производительными – это уже другой вопрос; но несомненно, что многие страсти и различные аффекты оказываются настоящим расточительством, душевным мотовством, ведущим к банкротству». (Овсянико-Куликовский Д .10 ).
«При виде душевного страдания повышается не что иное, как именно это объективированное чувство самоценности; я в повышенной степени переживаю, что значит быть человеком… И средством к этому является страдание…».(Липпс Ю.11 ).
Первая позиция, связанная с избеганием страдания, в своем обостренном варианте закрывает, как известно, новые поля опыта, обрезает жизнь, создает слепые пятна в ощущении себя и не дает чувствовать других.
Вторая может привести к обесцениванию переживания. Важно все-таки «про что страдал»: это могут быть слезы по умершему близкому человеку, а могут быть слезы полученной двойки или даже четверки (если можно получать только пятерки). Конечно, все очень индивидуально и зависит от контекста, иногда оценка тоже достойна страдания. Но кажется важным, чтобы в опыте было ироничное отношение к пустому страданию по мелочам.
Осмелюсь высказать предположение, что в современной психотерапии иногда почти священное отношение к страданиям клиента совмещается с избеганием собственного страдания у психотерапевта. Как представляется, психотерапевту хорошо быть отзывчивым (возбудимым, сенситивным) и устойчивым (способным находится в поле высокого напряжения). Эти два качества не всегда уживаются в одной душе, и уж тем более не всегда присутсвуют в одной ситуации. Опыт собственного страдания в нашей работе необходим, хотя конечно, никто не может определить «сколько и как» должен выстрадать терапевт, чтобы хорошо работать. Кроме того, в жизни терапевта должна оставаться жизнь, реальная жизнь со своими переживаниями, где он – действующее лицо. Только опыта сострадания клиенту пусть даже в самых драматических ситуациях его, клиента, жизни вполне недостаточно. В этом случае все самые сильные эмоции терапевт получает только в ситуации терапии и становится от нее зависимым, а значит теряет необходимую свободу во встрече с клиентом. Кроме того, терапевтические страсти так или иначе носят игровой характер, поскольку и ситуация терапевтическая по сути своей игровая, ее можно повторить, переиграть, попробовать еще раз. И чтобы не лезть с картонным мечом на сцену чужой жизни, терапевту важно иметь свою. В то же время ясная способность (иногда можно сказать «холодная») к рефлексии, сознаванию происходящего в собственной жизни терапевта, а не только в сессии, даже в самые горячие моменты способствует той самой устойчивости.
2. Каково отношение терапевта к страданию клиента? И шире, к проявлениям его страстей.
А) Бывают ли «низменные» страсти для терапевта?
Вероятно, у каждого из нас есть свои ограничения. Я не знаю, смогла ли бы я работать с осужденным на смерть за изощренное убийство или того пуще с насильником.
Здесь хочется сказать несколько слов о характере аффекта у терапевта. Л.С. Выготский выделяет две аффективные линии при восприятии произведения искусства: соаффект и собственный аффект зрителя. Мне представляется, что при восприятии клиента терапевтом происходят близкие по природе процессы12. Соаффект – это способность терапевта к «вчуствованию», способность к переживанию «вместе» с клиентом. Собственный аффект – это аффект «по поводу», со стороны, из своей точки в пространстве. При потере одной из этих линий или чрезмерном усилении другой происходит потеря терапевтической позиции. Другими словами, если я только «чувствую вместе с клиентом», я рискую впасть в контрперенос, потерять способность самостоятельного реагирования в ситуации терапии. Если во мне говорит только «собственный» аффект, я рискую остаться совсем со стороны, у клиента будет ощущение непонятости, холодных и далеких отношений с терапевтом, мало что дающих настоящей терапии. (Выготский еще называл это «эфектом содержания и аффектом формы»).
С другой стороны, в терапии происходит сложное взаимодействие и преобразование различных эмоциональных потоков и у терапевта и у клиента, включающее широкий (это естественно очень индивидуально варьируется) спектр разнообразных чувств, вполне не только «добрых». Хочется верить, что в терапии происходит «посредством действия, а не рассказа, совершающееся благодяря страданию и страху (и не только им – И.З.), очищение подобных аффектов» (Аристотель13 ), что гнев в терапии – это не то, после чего берут в руки оружие, ревность в терапии – это не то, после чего травят соперника, и т.д. Это преображенное, выраженное в образах, чувство, и уже потому – другое. Поэтому спектр терапевтического восприятия разнообразных чувств клиента шире, чем в жизни. То, что меня оттолкнуло бы, заставило избегать встреч, в терапии может стать полем совместной вполне вдохновляющей работы.
Б) Когда терапевта пугают страсти клиента?
Речь идет сейчас не о естественном страхе, испытываемом терапевтом в сопереживании, который может быть осознан, выражен или не выражен в зависимости от ситуации, и не становится препятствием или тормозом в терапии. Речь идет о страхе, мешающем терапии. И тут, как представляется, страсти клиента пугают терапевта тогда, когда по каким-то причинам у него (терапевта) нарушается балланс соаффекта и собственного аффекта. Условно говоря, если клиент, испытывая сильный страх, начинает пугать терапевта, естественная терапевтическая реакция состоит в том, чтобы испугаться, но не фатально, или, точнее говоря, не только испугаться, но успеть испытать еще какую-то эмоцию от того, как клиент пугается и как он пугает. Такую реакцию я назвала «естественной» уже потому, что в терапевтической ситуации присутствует условность, игра, рассказ про ужас – это уже не только ужас, но и рассказ, на него терапевт тоже каким-то образом реагирует. Но если клиентский страх терапевту слишком страшен, он не успевает или не может по разным причинам отреагировать на «рассказ», на форму высказывания клиента «про ужас», тогда у терапевта остается много вариантов контакта с переживанием (а заодно и с клиентом) избежать. Приведем примеры возможных избеганий:
Терапевт «может» сказать: «Нет, это совсем не страшно, это все ты сам себе придумал». Или что-нибудь в этом роде. Но более тонко (и к сожалению более часто) будет перескочить из своего страха в какое-нибудь другое чувство сразу: например, рассердиться на клиента или обидеться, пропустив при этом первичное свое чувство страха. Выразить ему свою агрессию или обиду, оставляя его с его страхом, не вступая в реальный контакт.
Или ваш клиент, сетуя на очень медленное продвижение, низкую эффективность терапии, в другом месте сессии сочно фантазирует, как он расправится с человеком, не оправдавшим его ожиданий. Можно, конечно, рассказать в этот момент клиенту, что движение в терапии редко идет по неуклонной линии прогресса, что неизбежны кризисы и разочарования, что это часть процесса, что он (клиент) никогда не возьмет на себя ответственность за свою жизнь, не разочаровавшись в силах терапевта мудро все за него решать и т.д. На какое-то время это может быть даже заглушит страх терапевта разочаровать клиента, страх, что клиент уйдет, покончит жизнь самоубийством, подаст на него в суд, убьет кого-нибудь или просто терапевта. Объяснения утешат, но ненадолго. Уже потому, что объясняя мы остаемся «мудрыми» и только отдвигаем страшный момент «разоблачения Гудвина». Прямые слова о собственном несовершенстве тоже не всегда помогают, клиент может их просто не услышать или отнести к кокетству терапевта. Клиентам бывает проще поверить в лень, недостаточно упорную работу терапевта над их проблемами, чем в неизбежность принятия собственных решений. Но если при этом у терапевта остается возможность отреагировать на форму высказывания клиента («Как сочно вы рассказываете о мести» или «как вы оживаете, описывая детали самоубийства») и даже предложить клиенту развернуть ее (с помощью второго стула или какими-то другими средствами), у клиента появляется больше возможностей увидеть «себя в мести» или «себя в ужасе», и соответственно взять на себя ответственность за собственное переживание. И тогда слова терапевта: «Я боюсь, что вы меня убьете, подкараулив после работы», «Я боюсь, что вы все-таки покончите жизнь самоубийством, как обещаете мне на каждой сессии, и мне потом придется всю жизнь думать, все ли я правильно сделал тут с вами», «Я боюсь вашей мести, когда терапия кажется вам неэффективной», «Я боюсь, что вы подадите на меня в суд, и мне потом долго придется с ними разбираться, а я мало что в этом понимаю», — могут зазвучать как отклик из более равной позиции. Выходя из иерархической заданности, терапевт получает большую свободу возможностей. Но сам по себе этот выход иногда превращается в сложную творческую задачу, клиенты неохотно отпускают нас из роли сильных, мудрых, знающих, имеющих опыт и право.
В) Когда терапевта восхищают страсти клиента?
Наши клиенты иногда так удивительно чувствуют, так классно это выражают, что впору восхититься тем, как у них это все происходит. Само по себе это не проблема, это радует, расцвечивает терапевтическую жизнь, как и жизнь вообще. Надеюсь, что у нас часто, разнообразно и по разным поводам будут возникать возможности восхищаться нашими клиентами и выражать им свое восхищение. Но иногда, когда к примеру, страсти клиента, которые восхищают терапевта, на него же терапевта и направлены (скажем, в сильном эротическом переносе), ситуация совсем не так проста и прекрасна. Соблазн превратиться в прекрасного принца или принцессу из снов клиента бывает очень велик, тем более что в жизни любви редко бывает слишком много. И если терапевт теряет способность видеть ситуацию со стороны, предпочитает забыться в страсти, то неплохо-таки помнить, что терапия в этой точке кончается. Об этом сказано и написано много от З.Фрейда до И.Ялома, добавлю только, что вероятно здесь происходит тот же дисбаланс аффектов (соаффекта и собственного аффекта), о котором мы говорили чуть выше. При размышлениях над этим возникает следующий вопрос, уж совсем пока для меня открытый:
Может ли любовь к истине, как к наиболее точно названной реальности, соблазнять больше, чем любовь к иллюзии?
Я думаю, что терапевт почти всегда знает, что «любовь» к нему клиента наполнена массой иллюзий, что по сути, это увлечение собственными иллюзиями, и если в жизни каждый имеет право на свои иллюзии, в терапии есть некоторая «ответственность за реальность». Ответственность эта распределяется неравномерно и только, может быть, к концу терапии достигает распределения 50 на 50. Так что соблазнение иллюзией связано с потерей профессиональной позиции, терапет страновится либо «хреновым» терапевтом в разных значениях этого слова (во всяком случае для конкретного клиента) либо перестает им быть.
3 Что же мы со всем этим делаем в терапии?
Работаем, чувствуем, живем. В гештальт-терапии один из основных помощников во встрече со страстями – образ. Одно из значений слова «гештальт» — образ. «Образ жизни», «образ мысли», «образ самого себя», «образ действия», «телесный образ», «образ фантазии», «твой образ»14, «образ» во всех значениях этого многообразного слова. Образ помогает встретиться с хаосом жизни и не утонуть сразу. Образ и символ имеют разные, а иногда противоположные значения. Фрейд пытался осмыслить жизнь через символ, а Перлз через образ. В работе со страстями помогает их воплощенность в ясный телесный, зрительный или любой другой образ. Образ становится тем почти материальным предметом, встречаясь с которым клиент может обрести большую ясность и по отношению к собственным желаниям, и по отношению к собственным действиям. Одна из задач гештальт-терапевта – поддержка выражения страсти, воплощения ее в ясный образ, а затем принятие этого образа, что само по себе иногда не менее сложно.
Позвольте сослаться на авторитеты.«Всякая наша эмоция имеет не только телесное выражение, но и выражение душевное, всякое чувство «воплощается, фиксируется в какой-либо идее, как это лучше всего видно в бреде преследования».(Рибо15 ) Эмоция выражается не столько в мимических, пантомимических, секреторных, соматических реакциях нашего организма, но она нуждается в известном выражении посредством нашей фантазии. Так больной, страдающий навязчивым страхом, в сущности говоря,болен чувством, у него беспричинный страх, и уже потом его фантазия подсказывает ему, что все за ним гонятся и его преследуют. (Выготский16 ) Зеньковский назвал это законом двойного выражения чувств: всякая эмоция обслуживается воображением и сказывается в целом ряде фантастических представлений и образов, которые служат как бы вторым выражением. (…) Чувство и фантазия являются не двумя друг от друга отделенными процессами, но в сущности, одним и тем же процессом, и мы вправе смотреть на фантазию, как на центральное выражение эмоциональной реакции17. Дальше встает вопрос о том, под влиянием деятельности фантазии усиливается или, наоборот, ослабевает внешнее выражение чувств. Выготский считает, что оба варианта возможны – один, когда образы фантазии или представления являются внутренними раздражителями для нашей новой реакции, тогда они усиливают основную реакцию. Так, яркое представление усиливает наше любовное возбуждение, но в этом случае фантазия не является выражением той эмоции, которую она усиливает, а является разрядом предшествующей эмоции18. Там же, где эмоция находит свое разрешение в образах фантазии, там, конечно, это фантазирование ослабляет реальное проявление эмоции, и если мы изжили наш гнев в нашей фантазии, он в наружном проявлении скажется чрезвычайно слабо. Закон однополюсной траты энергии при эмоциях: при эмоции трата энергии совершается преимущественно на одном из двух полюсов – или на периферии или в центре – и усиление деятельности на одном полюсе ведет немедленно же к ослаблению его на другом.
А) Распаляет ли страсти терапия или усмиряет их?
После сказанного выше естественно предположить, что в терапии присутствуют оба процесса: и усиление и ослабление страстных эмоциональных реакций. Если изначально мы сталкиваемся в терапии с ситуацией «разделенности эмоциональных и волевых моментов», другими словами, если то, что «я делаю» и «чего я хочу» (при чем желания либо смутны, либо подавлены, погребены под «нужно» и «должен», либо вообще отсутствуют) очень далеки от того, «что я чувствую» (что может связываться с депрессивными переживаниями, неудовлетворенностью собой, «серостью жизни», «комплексом неполноценности», общим параличом воли и недостатком творческой активности), механическая активность становится единственным двигателем и никак не подкрепляется эмоционально. Человек начинает чувствовать себя «рабом ситуации» мелким и тоскливо-холодным19. В терапии тактически идет повышение ценностных установок. Терапевт набивает цену жизни, как чему-то, что достойно творческих усилий. До этого почти все наши «что ты чувствуешь?», «чего ты хочешь?» и т.д. могут потерпеть фиаско: «я ничего не хочу», «я ничего не чувствую», «я делаю то, что делал всегда» — возможные ответы на наши обращения. Понятно, что с каждым конкретным клиентом этот процесс приобретает какие-то свои формы: иногда важно бывает поделиться своим опытом обесценивания и возвращения ценности жизни, иногда полезным становится воспоминание о том, что было ценным еще недавно для самого клиента, иногда решающим становится опыт выживания в стрессовой ситуации, когда задача выживания обнажает сама по себе ценность жизни (на этом основаны разнообразные программы реабилитации «путешествие через пустыню»). Только затем становится возможным более активное обращение к желаниям («чего я хочу»), это не значит, конечно, что обращение к чувствам и действиям отсутствуют. Обращения к «ид» могут продолжать натыкаться на глухое отторжение: «Ничего не чувствую, тоска, серость». «Серость» — сама по себе метафора, но из этой метафоры выйти к живому образу бывает крайне сложно, и сознавание своих чувств в этих случаях в первый период терапии редко дает энергетический всплеск. При обращении к «эго» мы, конечно, тоже сталкиваемся с «ничего не хочу», «хочу лечь и умереть», но по опыту, воплотить «хочу лечь» или «хочу забиться в темный угол» прямо в пространстве сессии и получить при этом некоторое энергетическое изменение более реально, чем вырастить зеленый куст из метафоры «серость». Т.е тактически идет работа с оживлением, вместо механической порабощенности жизненной ситуацией, должна пробудиться самостоятельная творческая активность, способность реализовывать возможности поля. В этом смысле возможность «лечь», «спрятаться» во время сессии вполне парадоксальна, это метафорический отказ от реализации терапевтического потенциала сессии: лечь, вроде как, удобнее дома на диван, спрятаться – тоже. Но в то же время эта метафора отражает самостоятельную человеческую позицию клиента по отношению к миру и возможностям, которые он если не предлагает, то уж точно имеет. Эмоционально в работе терапевта в это время большую роль играет «соаффект» по сравнению с «собственным аффектом», происходит как бы «оживление» поначалу даже на эмоциональном ресурсе самого терапевта. Соответственно, при успешной терапии страстность клиента усиливается, он приобретает способность воплощать свои желания, воля и чувство могут звучать вместе, а не уступать друг другу место на сцене душевной жизни.
Если же то, что «я делаю» плотно связано с тем, что «я чувствую» (при чем чувства прохо дифференцируются, воспринимаются в основном как тревога), но отделено от того, «что я хочу», от реального осознавания своих потребностей (как это происходит, например, когда мы сталкиваемся с зависимостями, «уплощение сферы желаний» — хочу любви – иду ем, хочу признания – иду ем, пугаюсь – тоже иду ем), тогда поначалу страстная патологическая связка должна быть сначала разрушена, в пищевой метафоре нам нужно разоблачить еду как единственную претендентку на страсть и вернуть эмоциональные силы любви, желанию признания, страху и т.д. Общая «тревога» как всемирный хаос должна породить разнообразные, более дифференцированные и адресные переживания. Это тот случай, про который Наранхо пишет: «Даже если нельзя сказать, что оправданное моралью действие имеет целью отвлечь от мыслей о сексуальности и гневного бунта, мы можем сказать, что именно намерение, т.е. расположенность к действию, служит тому, чтобы эмоции оставались неосознанными». Тактически в терапии поначалу идет опора на намерение освободиться от зависимости, и только потом возможно большее обращение к «ид» («что я чувствую»), что само по себе снижает накал «алчбы», в перспективе дает возможность более ясного выхода к тому, «чего я хочу». Эмоционально в работе терапевта поначалу большую роль играет «собственный аффект» по сравнению с «соаффектом», способность терапевта к самостоятельному, независимому, стороннему взгляду. Соответственно, в этом случае при успешной терапии пристрастие к предмету зависимости утихает, уступая место разнообразию желаний и избирательности их воплощения.
Таким образом, получается на первый взгляд, что в работе с одними проблемами и состояниями «страстность» клиента развивается, а при работе с другими – утихает. Но если мы приглядимся к проблеме внимательнее, увидим, что это не совсем так, потому что имеются ввиду разные значения понятия «страстность». Развивается, вспоминается душой то, что можно еще назвать «воодушевленностью», «душевным порывом к чему-то», а стихает то, что ближе к понятиям «алчба, пристрастие, необузданное влечение». Поэтому точнее, как кажется, было бы сказать, что в обоих случаях развивается способность к дифференцированному чувствованию жизни.
Б) Гештальт-терапия сначала называлась терапией сосредоточением, но если мы сталкиваемся в терапии с действенной страстью, «слиянием волевых и эмоциональных моментов», (в работе с зависимостями, например) что мы можем противопоставить этой страстной сосредоточенности?
Не в традициях гештальт-терапии вообще что-то чему-то противопоставлять, нет «хорошей полярности» — обе полярности лишь часть чего-то большего. Основной способ работы с сопротивлением здесь – это его поддержка. Но сложность состоит в том, что в случае зависимого подчинения страсти фон не просто обесценен, его как будто бы нет вообще, предмет страсти как будто существует в безвоздушном разряженном пространстве (на первом этипе работы с зависимостью иногда помогает только молитва, обращение к Высшей силе, существующей вне контекста или над контекстом). И задача может состоять в возвращении предмета страсти в мир, в естественный контекст. В случае с наркотиком это может быть реальное возвращение в жизнь или полный отрыв, ведущий к смерти. А в конкретном контексте наркотик – просто вещество, имеющее конкретные физические характеристики и свойства (порошок можно рассыпать, дунуть – разлетится, жидкость – разлить, размазать и т.д.), которое в одних случаях может облегчать тяжелые страдания (например, у больных в терминальной стадии рака), в других – подменять собой предметы разнообразных потребностей от простого голода до самоактуализации. Терапевтическая работа здесь – это подтверждение и принятие силы страсти (иногда ее власти), возможно более полное выражение ее (при этом важна дифференциация: отличать желание выпить от голода, усталости или одиночества, например) и дальше определение контекста, иногда – поиски контекста.
Страсть бывает чрезвычайно обаятельна, с одной стороны, потому что в ней много природной силы, как в цунами, с другой стороны, потому что на рассредоточение, способность видеть шире, нужно не меньше сил, чем на сосредоточение в страсти и при этом волевой момент (особенно поначалу) как будто бы совсем произвольный, насильственный, иногда кажущийся абсурдным (как будто я говорю: «Я люблю именно этого мужчину и только его одного!» — А мне отвечают: «Но посмотри, как много на свете еще других!»). И наконец, страсть затмевает все выборы, не нужно ничего выбирать, прислушиваться ни к каким нюансам и сомнениям, разбираться со смыслами жизни, страсть – ведет, освобождаясь от страстной сосредоточенности пусть даже на наркотике, оказываешься лицом к лицу со всеми этими вопросами, не имеющими.
Нам нечего противопоставить наркотику наркомана или рулетке игрока, кроме собственной любви к жизни.
В) Где грань, отделяющая «здоровую» страсть от патологической. Здоровую способность сосредоточиться и воплотить свое желание от страстного сужения мира в одной точке.
Есть, как представляется несколько простых критериев, с которыми потом трудно обходиться.
1) «Здоровая» страсть может быть удовлетворена. Я сделал – и доволен. Это говорит о том, что здесь разряжался эмоциональный заряд именно с этой ситуацией связанный. Если же на выходе мы видим ту яму, которую чем больше роешь, тем глубже и ненасытнее она становится, то вероятно, в страсти замешаны следы других недочувствованных ситуаций, недоделанных дел.
2) Нет «сужения мира», когда от всего многоголосья окружающего мне остается лишь «одна, но пламенная страсть».
3) При «здоровой страстности» сохраняется способность фантазировать, создавать сочные образы в разных жизненных сферах, не соприкасающихся с объектом страсти, более того, как будто творческих сил прибавляется (когда я люблю, я и работаю интереснее).
4) В «здоровой страсти» нет страха отвлечься от предмета, я не должна 24 часа в сутки его контролировать. Если это человек – то какое-то время я вполне могу прожить без него и для меня не смертельно, что какое-то время он может прожить без меня.
5) Нет интеллектуального отупения, когда повторение и банальность овладевают жизнью.
6) Нет рабской системы иллюзий, которая поддерживает хрупкий мир, который иначе рухнет.
7) При патологической страсти жизнь дает знаки, сигналы в виде неожиданных провалов и проколов: потери большой суммы денег, выпадения из памяти серьезного дела и т.д.
Г) Встречаем ли мы в зависимости страстность? Является ли зависимый человек страстным?
Серьезное, глубокое и детальное обсуждение – отдельный вопрос. Но опыт подсказывает общий ответ, важный сегодня для нашей темы: зависимый – скорее пристрастный, чем страстный. Если мы говорим о страсти, имея ввиду глубину, разнообразие, яркость и стойкость самого переживания. Зависимость связана скорее с эмоциональной уплощенностью, неспособностью к глубокому чувству, это более поверхностная раздражительность и душевная холодность при внешних взрывах.
Д) Что такое «проживание» страсти? Возможен ли опыт «обращения» со страстями (своими и клиента)? Как сделать страсти зрячими (а не «слепыми»)?
Наверное, это вопрос вопросов. На эту тему написаны целые трактаты, религиозные системы пытаюстся выстроить непротиворечивые ответы на эти вопросы. Поэтому, по возможности избегая всякого теоретизирования на эту тему, попробую сделать нечто невозможное – выписать собственный краткий рецепт обращения со страстями в процессе работы.
Начнем с конца, с последнего «подвопроса»: моя нехитрая мысль состоит в том, что страсти должны быть видны и увидены в терапии. По старой поговорке «Любовь зла, полюбишь и козла» — этот козел должен проблеять в терапии, чувство к нему должно быть выражено в ясно видимых формах, а дальше клиент сам решает, что ему делать с этой козлиной реальностью, а терапевт остается рядом. Любой наполеоновский замысел достоин того, чтобы встретиться с реальностью в терапевтической ситуации и если не все они в результате осуществлятся – значит так тому и быть, а может быть, некоторое только наберут силу и ясную устремленность. Что же способствует этому процессу в терапии.
Во-первых, сохранение ясного видения, слуха, обоняния, осязания и т.д. («Мир, который всегда под рукой»20 ). По отношению к клиенту, это внимание к его миру, его «сужениям» и «расширениям». Фактически на это направлены все терапевтические побуждения к осознаванию сиюминутных действий, впечатлений, запахов, звуков. Это то, что касается «внешней сферы» как для клиента, так и для терапевта. Но если для терапевта сохранение внимания к «внешней сфере» событитий важно на протяжении всей сессии (и всей терапии), то для клиента это по-видимому, процесс пульсирующий: в процессе выражения сильного чувства клиент может не сознавать окружающую реальность и задача терапевта не дать реальности потеряться совсем, не дать глазам клиента окончательно закрыться.
Во-вторых, это сознавание и выражение того, что со мной происходит. Я оставляю себе только тот накал, при котором могу оставаться целой. Выражая чувство я тем самым выхожу из-под полной его власти, оно становится определенной частью моего эмоционального спектра: «я люблю, но не только», «я боюсь, но не только», «я стыжусь, но не только». Невыраженное чувство имеет больше шансов властвовать надо мной. Выражение клиентом чувств отличается от выражения ощущений (ощущение сухости во рту или дрожи в коленках может быть частью комплекса под названием «страх», например, ощущения можно пробовать усилить, следствием чего часто становится осознание чувства и выход из-под его безраздельной власти). Это касается и работы со страхами, когда из части собственного страха клиент превращается в человека, у которого есть кроме страха «что-то еще». Если в первом пункте мы говорили о внимании к внешней сфере, то здесь речь идет о внимании к «внутренней сфере».
В-третьих, это не «расплескивание всего до нуля», потому что тогда нет ресурса ни для работы, ни для радостной жизни. Выражение чувства – реплика в диалоге, и если я не вижу, кому я говорю о своем чувстве и в какой момент, то все это рискует превратиться в простое «отыгрывание». В выражении даже самой сильной страсти есть некая кульминационная точка, и если мы просто ждем, когда чувство выразится и исчерпает само себя, энергии на встречу с реальностью уже не остается: иногда так бывает, что человек «проорался и уснул» — и хотя чувство нашло свое полное выражение, это вряд ли будет иметь большой смысл для терапии. Третий пункт относится к «пространству между» терапевтром и клиентом. Даже в минуты самых сильных страстных проявлений клиент не должен оставаться один (хотя ему самому иногда может этого хотеться) уже потому, что на индивидуальной сессии как правило присутствуют двое, у него должна быть возможность отразиться в другом человеке со всем своим искаженным сильными переживаниями или наоборот преображенным сильными переживаниями существом.
В-четвертых, как для терапевта, так и для клиента должна оставаться возможность творческого самовыражения. Это тоже свойство «пространства между»: в терапии оно все время располагает к выборам и необходимости творческих решений. Если вдруг появляется ощущение жесткой заданности, единственной возможности, значит подступает слепота. Помните детские задачки про мух («на столе сидело 3 мухи, одну муху убили, сколько мух осталось?») или страусов, их можно было решить только выйдя из жестко запрограммированной логики в более разнообразное пространство возможностей, и тогда количество и качество решений сразу множится («муха осталась одна, так как две другие улетели», «мух в живых осталось две, так как погибла одна»). В терапии для клиента есть специально выделенное время и пространство, чтобы воплотиться, найти свое решение, свой способ творчества, найти «что-то еще».
В-пятых, нужно не пропустить точку, когда чувству пора перейти в намерение. Страсть киснет, не воплотившись. Есть опасность как для терапевта, так и для клиента «закопаться в собственном пупке». Можно по сотому разу спрашивать клиента, что он чувствует, и никуда не двигаться. Можно проходить 105 группу в качестве клиента и ничего не менять в своей жизни.
4 Что мы делаем, когда проявлений страстей клиента нет, но и жизни как будто тоже нет, когда поверхность душевной жизни гладка и темна, как вода на болоте?
У клиента и терапевта может от природы быть разный «уровень страстности», разный опыт чувствования. Отчасти, как кажется, это вопрос о пресловутой «вненаходимости» терапевта. Свои «домашние» страсти вроде как лучше оставлять на пороге встречи с клиентом. Другое дело, если внутри сессии терапевту становится скучно и он сознает, что эта скука имеет прямое отношение к тому, что сейчас непосредственно происходит в сессии. Тогда он может говорить о своей скуке с той долей страсти, которая у него при этом рождается.
5 Что такое «страстный терапевт»? И к кому он в этом случае ближе, к «страстнику» или «страстотерпцу»?
Это сложный вопрос, каждый каким-то образом отвечает на него за себя в профессии. Мы близко ходим от корысти, алчности, жажды власти, вожделения, гнева и много чего такого. Страсти захватывают, и далеко не всегда хочется быть «зрячим». С другой стороны, развивая сознавание, мы развиваем и способность «холодного» видения, осознанное чувство меняется по накалу (чаще в сторону ослабевания). И дальше вопрос, обращенный к себе может касаться того, что мы делаем или не делаем, осознавая собственную алчность, вожделение и т.д. Насколько терапевт способен проживать стыд и вину, не освобождаться от них, а как раз проживать. Хочется сказать, что «страстный терапевт» — это терапевт, способный выносить высокий накал эмоционального напряжения, переживать рядом с клиентом мощные взлеты и падения, но не фанатик, в том числе не фанатик собственного дела. Если психотерапевт становится фанатиком терапии, ему может начать казаться, что в его услугах нуждается весь мир, что нет человека, который в той или иной ситуации не пришел бы к нему за профессиональной помощью. Его собственная жизнь вне терапии меркнет, теряет цвет и смысл.
А) Бывает ли «холодная страстность»? Вопрос о соотношении эмоциональности и страстности.
Можно теоретически предположить, что там, где волевой момент давно и основательно подавил эмоциональный, там где забыто то, что изначально волновало, там где нет проживания непосредственно возникающих в ситуации отношений, а есть «остатки прежних переживаний», возможна «холодная страсть». «Жажда власти», «страсть обладания», «холодная страсть в глазах убийцы» (простите за выражение). (Ставрогин и Жан Габен??) В самих формулировках есть противоречие: «жажда власти» — это значит я «чего хочу?» и «что чувствую?». При физиологической жажде можно описать ощущения, при «жажде власти» — вряд ли, но вероятно и в жажде власти есть следы предшествующих аффектов, не нашедших разрешения .
С другой стороны, в настоящей страстности внешний эмоциональный момент может быть чрезвычайно редуцирован. Но сила чувства при этом не ослабляется, а скорее наоборот, нет «расплескивания», «отыгрывания» и за счет этого происходит усиление волевого момента страстности. Разница состоит в том, что в этом случае чувство связано с конкретной ситуацией, к ней и относится. Здесь «холодная страстность» — «оскюморон», полезный для терапевта. Чтобы в терапевтической ситуации что-то сделать, а не превращать нашу работу в пустую болтовню, в терапевте должна быть накоплена достаточная энергия (в клиенте тоже). Страсти терапевта – умные страсти. Терапевту неплохо бы уметь выражать свои чувства клиенту. Но это утверждение превращается в обычный интроект, если выражение чувств превращается для терапевта чуть ли не в единственный способ обращения с ними. Терапевту так же неплохо бы уметь не выражать свои чувства клиенту сразу как только они возникли, хотя сознавать их при этом все равно полезно. Выражение чувств не является целью терапии, оно есть важный шаг в установлении и развитии контакта. Но иногда оно превращается в способ немедленной «разрядки» любого возникающего ощущения, и тогда о каком контакте может идти речь? О контакте с душевной пустотой? Терапевту неплохо уметь выносить, переживать, не расплескивать нарастающее напряжение эмоции, в терапии она – инструмент, который может быть тупым или острым. Не нужно путать чувствительность и страстность.
«Чувствительный человек теряет ее (голову) при малейшей неожиданности (…). Заполните хоть весь зрительный зал этими плаксами, но на сцену не выпускайте ни одного. (…) Чувствительность — всегда признак общей слабости натуры. Одна лишь слеза мужчины, настоящего мужчины, нас трогает больше, чем бурные рыдания женщины.
Чувствительный человек слишком зависит от собственной диафрагмы, чтобы стать великим королем, великим политиком, великим судьей, справедливым человеком, проницательным наблюдателем, а следовательно, превосходным подражателем природы, если только он не умеет забывать себя, отвлекаться от самого себя, создавать силой своего воображения и удерживать в своей цепкой памяти видения, служившие ему образцами; но тогда действует уже не он, им владеет дух другого существа». (Д.Дидро. «Парадокс об актере»21 ).
Страсть – это вечный порыв к целостности. Положить все яйца в одну корзину, отдаться полностью, исполнить то, во что веришь и чего хочешь. Осторожность дробит мир: «Доверяй, но проверяй, береженого Бог бережет» — все это сохраняет двойственность. Но чтобы отдаться страсти полностью тоже нужно быть слегка слепым, а значит, уже не целостным. Человек меньше Мира, но мерит Мир собой, дробится, чтобы охватить большую Целостность. Для того, чтобы что-то сделать, нужно уметь от этой Целостностности отвлечься и впасть в страсть, но не забываться навсегда, иначе – фанатизм и слепота.
Перефразируя того же Дидро, хочется закончить на обнадеживающей мысли, что проживая свои страсти, мы становимся свободнее и совершенствуемся в профессии. Итак: «Вообразите, что вы клиент (поэт); вы ищете терапевта (ставите пьесу), вы свободны выбирать либо терапевтов (актеров), обладающих глубоким суждением и холодной головой, либо терапевтов (актеров) с повышенной чувствительностью. Но прежде чем вы что—либо решили, позвольте задать вам один вопрос: в каком возрасте становятся великим терапевтом (актером)? Тогда ли, когда человек полон огня, когда кровь кипит в жилах, когда от легчайшего толчка все существо приходит в бурное волнение и ум воспламеняется от малейшей искры? Мне кажется, что нет. Тот, кого природа отметила печатью терапевта (актера), достигает превосходства в своем искусстве лишь после того, как приобретен долголетний опыт, когда жар страстей остыл, голова спокойна и душа ясна. Лучшее вино, пока не перебродит, кисло и терпко; лишь долго пробыв в бочке, становится оно благородным».
И.С. Захарян
1. Аристотель, Об искусстве поэзии, М., 1957.
2. Выготский Л.С. Психология искусства, М., «Искусство», — 1968.
3. Дидро Д. «Парадокс об актере» ON-LINE http://www.philolog.ru/ filolog/teorlit.htm).
4. Кант И. Антропология с прагматической точки зрения ON-LINE http://filosof.historic.ru/
5. Краткий психологический словарь ON-LINE http://encikl.by.ru.
6. Наранхо,К. Характер и невроз. – ЗАО «Диалог» — ИП «Лотаць». – СПб. – Мн., 1998.
7. Толковый словарь живого великорусского языка В. Даля ON-LINE http://vidahl.agava.ru/P221.HTM#38935
8. Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова ON-LINE http://mega.km.ru/
9. Хорни К. Недоверие между полами, — в кн. «Женская психология», — С-Пб., 1993.
________________
«Я жить хочу! хочу печали
Любви и счастию назло;
Они мой ум избаловали
И слишком сгладили чело.
Пора, пора насмешкам света
Прогнать спокойствия туман;
Что без страданий жизнь поэта?
И что без бури океан?
Он хочет жить ценою муки,
Ценой томительных забот.
Он покупает неба звуки,
Он даром славы не берет.
Или Цветаева «Мой Пушкин» http://lib.ru : «Между полнотой желания и исполнением желаний, между полнотой страдания и пустотой счастья мой выбор был сделан отродясь — и дородясь.»
7. Д.Дидро «Парадокс об актере» ON-LINE http://www.philolog.ru/ filolog/teorlit.htm).
8. Кант И. Антропология с прагматической точки зрения ON-LINE http://filosof.historic.ru/ books/item/f00/s00/z0000507/st000.shtml
9. Наранхо,К. Характер и невроз. – ЗАО «Диалог» — ИП «Лотаць». – СПб. – Мн., 1998.
10. Цит.по: Выготский Л.С. Психология искусства, М., «Искусство», — 1968. стр.255.
11. Цит. по: Выготский Л.С. Психология искусства, М., «Искусство», — 1968. — С. 263.
12. Как это происходит при восприятии худ.текста см. Выготский — С.262.
13. Аристотель Поэтика www.philolog.ru/filolog/teorlit.htm стр.56
14. «Образ твой, мучительный и зыбкий,
Я не мог в тумане осязать.
«Господи!»- сказал я по ошибке,
Сам того не думая сказать.
Божье имя, как большая птица,
Вылетело из моей груди!
Впереди густой туман клубится,
И пустая клетка позади…
Апрель 1912» Мандельштам О. Э. ON-LINE http://www.lib.ru/ POEZIQ/MANDELSHTAM/stihi.txt
15. Цит. по: Выготский Л.С. Психология искусства, М., «Искусство», — 1968. — С. 264.
16. Выготский Л.С. – С.265.
17. Там же.
18. См., например, Пушкин А.С. «Каменный гость» http://ilibrary.ru/ .
Дон Гуан. Ее совсем не видно
Под этим вдовьим черным покрывалом,
Чуть узенькую пятку я заметил.
Лепарелло. Довольно с вас. У вас воображенье
В минуту дорисует остальное;
Оно у нас проворней живописца,
Вам все равно, с чего бы ни начать,
С бровей ли, с ног ли.
19. См., например, описания состояний у А.Платонова: «Он почувствовал сомнение в своей жизни и слабость тела без истины, он не мог дальше трудиться и ступать по дороге, не зная точного устройства всего мира и того, куда надо стремиться» А.Платонов Котлован http://ilibrary.ru/ .
20. Ильичева Е. В сб.: Гештальт-терапия: обзор. М., МИГТиК, 2005.
21. Дидро Д. «Парадокс об актере» ON-LINE http://www.philolog.ru/ filolog/teorlit.htm
2. Выготский Л.С. Психология искусства, М., «Искусство», — 1968.
3. Дидро Д. «Парадокс об актере» ON-LINE http://www.philolog.ru/ filolog/teorlit.htm).
4. Кант И. Антропология с прагматической точки зрения ON-LINE http://filosof.historic.ru/
5. Краткий психологический словарь ON-LINE http://encikl.by.ru.
6. Наранхо,К. Характер и невроз. – ЗАО «Диалог» — ИП «Лотаць». – СПб. – Мн., 1998.
7. Толковый словарь живого великорусского языка В. Даля ON-LINE http://vidahl.agava.ru/P221.HTM#38935
8. Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова ON-LINE http://mega.km.ru/
9. Хорни К. Недоверие между полами, — в кн. «Женская психология», — С-Пб., 1993.
________________
- Plus est en vous - девиз средневекового рыцарского ордена Золотого Руна.
- Хорни К. Недоверие между полами, — в кн. «Женская психология», — С-Пб., 1993, С.77.
- Толковый словарь живого великорусского языка В. Даля ON-LINE http://vidahl.agava.ru/P221.HTM#38935
- Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова ON-LINE http://mega.km.ru/
- Краткий психологический словарь ON-LINE http://encikl.by.ru.
- Ср.так же Лермонтов М.Ю.
«Я жить хочу! хочу печали
Любви и счастию назло;
Они мой ум избаловали
И слишком сгладили чело.
Пора, пора насмешкам света
Прогнать спокойствия туман;
Что без страданий жизнь поэта?
И что без бури океан?
Он хочет жить ценою муки,
Ценой томительных забот.
Он покупает неба звуки,
Он даром славы не берет.
Или Цветаева «Мой Пушкин» http://lib.ru : «Между полнотой желания и исполнением желаний, между полнотой страдания и пустотой счастья мой выбор был сделан отродясь — и дородясь.»
7. Д.Дидро «Парадокс об актере» ON-LINE http://www.philolog.ru/ filolog/teorlit.htm).
8. Кант И. Антропология с прагматической точки зрения ON-LINE http://filosof.historic.ru/ books/item/f00/s00/z0000507/st000.shtml
9. Наранхо,К. Характер и невроз. – ЗАО «Диалог» — ИП «Лотаць». – СПб. – Мн., 1998.
10. Цит.по: Выготский Л.С. Психология искусства, М., «Искусство», — 1968. стр.255.
11. Цит. по: Выготский Л.С. Психология искусства, М., «Искусство», — 1968. — С. 263.
12. Как это происходит при восприятии худ.текста см. Выготский — С.262.
13. Аристотель Поэтика www.philolog.ru/filolog/teorlit.htm стр.56
14. «Образ твой, мучительный и зыбкий,
Я не мог в тумане осязать.
«Господи!»- сказал я по ошибке,
Сам того не думая сказать.
Божье имя, как большая птица,
Вылетело из моей груди!
Впереди густой туман клубится,
И пустая клетка позади…
Апрель 1912» Мандельштам О. Э. ON-LINE http://www.lib.ru/ POEZIQ/MANDELSHTAM/stihi.txt
15. Цит. по: Выготский Л.С. Психология искусства, М., «Искусство», — 1968. — С. 264.
16. Выготский Л.С. – С.265.
17. Там же.
18. См., например, Пушкин А.С. «Каменный гость» http://ilibrary.ru/ .
Дон Гуан. Ее совсем не видно
Под этим вдовьим черным покрывалом,
Чуть узенькую пятку я заметил.
Лепарелло. Довольно с вас. У вас воображенье
В минуту дорисует остальное;
Оно у нас проворней живописца,
Вам все равно, с чего бы ни начать,
С бровей ли, с ног ли.
19. См., например, описания состояний у А.Платонова: «Он почувствовал сомнение в своей жизни и слабость тела без истины, он не мог дальше трудиться и ступать по дороге, не зная точного устройства всего мира и того, куда надо стремиться» А.Платонов Котлован http://ilibrary.ru/ .
20. Ильичева Е. В сб.: Гештальт-терапия: обзор. М., МИГТиК, 2005.
21. Дидро Д. «Парадокс об актере» ON-LINE http://www.philolog.ru/ filolog/teorlit.htm
Литература