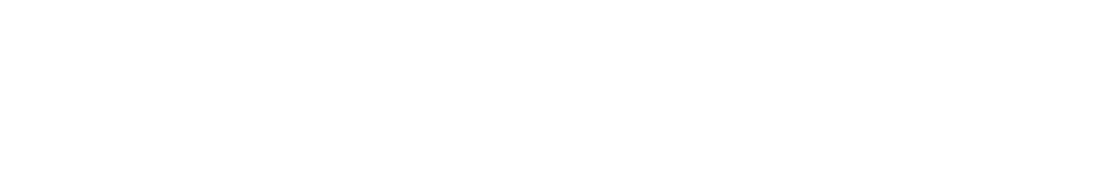Понятие «страсти» в различных психотерапевтических направлениях
Опубликовано в Гештальт Гештальтов-2007 №2
Не знаю, можно ли назвать страстями те чувства, которые всколыхнулись во мне, когда я начал готовиться к этой теме, но чувства были сильные: сначала я полагал, что главная трудность будет заключаться в избытке материала, однако, оказалось наоборот: слово «страсти» встретилось только в работах Петера Куттера (1998, «Любовь. Ненависть. Зависть. Ревность. Психоанализ страстей») и в книге Клаудио Наранхо «Характер и невроз». Совершенно иной подход (кардинально противоположный психотерапии) к проблеме страстей демонстрирует православие и православная психотерапия, это подход, основанный на понятии «греха», борьбы с ним и покаяния. Однако в данном описании я остановлюсь на психологической модели «страстей».
Действительно глубокая проработка этой темы встретилась мне в работе Ролло Мэя «Любовь и воля». Он употребляет в ней термин «демоническое», который, по-моему, близок к понятию «страсти».
Демоническое, по Мэю, это «любая естественная функция, которая обладает способностью целиком подчинять себе личность».
Секс и эрос, гнев и ярость, жажда власти — вот примеры демонического
Сравним: «Страсть—устойчивое, глубокое и сильное чувство, определяющее направление мыслей и поступков человека», (Петровский, 1997), другие определения схожи.
Не знаю, можно ли назвать страстями те чувства, которые всколыхнулись во мне, когда я начал готовиться к этой теме, но чувства были сильные: сначала я полагал, что главная трудность будет заключаться в избытке материала, однако, оказалось наоборот: слово «страсти» встретилось только в работах Петера Куттера (1998, «Любовь. Ненависть. Зависть. Ревность. Психоанализ страстей») и в книге Клаудио Наранхо «Характер и невроз». Совершенно иной подход (кардинально противоположный психотерапии) к проблеме страстей демонстрирует православие и православная психотерапия, это подход, основанный на понятии «греха», борьбы с ним и покаяния. Однако в данном описании я остановлюсь на психологической модели «страстей».
Действительно глубокая проработка этой темы встретилась мне в работе Ролло Мэя «Любовь и воля». Он употребляет в ней термин «демоническое», который, по-моему, близок к понятию «страсти».
Демоническое, по Мэю, это «любая естественная функция, которая обладает способностью целиком подчинять себе личность».
Секс и эрос, гнев и ярость, жажда власти — вот примеры демонического
Сравним: «Страсть—устойчивое, глубокое и сильное чувство, определяющее направление мыслей и поступков человека», (Петровский, 1997), другие определения схожи.
Б.А. Зелексон
«Если изгнать чертей, то и ангелы дадут деру…»
1. Демоническое больше связано с силой природы, чем с силой Сверх-Я, и находится за пределами добра и зла. Демоническое не является также «зовом человека к самому себе», о чем говорил Хайдеггер, а после него — Фромм, потому что источник его находится в той области, где корни нашего Я уходят в силы природы, которые этому Я не подвластны и воспринимаются как давящие на нас тиски судьбы. Демоническое поднимается скорее из основ бытия, чем из Я как такового.
Я остановлюсь на наиболее важных, по-моему, свойствах демонического и способах совладания с ним, а затем, если останется время, расскажу о понимании страстей в других психотерапевтических направлениях.
2. По-видимому, имеет смысл уточнить термин, поскольку название «демоническое» имеет коннотацию чего-то «дьявольского, нечистой силы» и т.п.
Между тем, греческое понятие «даймон» — источник нашего современного концепта — включало в себя и творческие способности поэта и художника, и способности нравственного и религиозного лидера, но также и заразительную энергию влюбленного.
Концепт «демоническое» представляется нам неприемлемым не по причине внутренних недостатков, а из-за наших отчаянных попыток отрицать то, что он обозначает. Это слишком сильный удар по нашему нарциссизму. Мы же «приличные» люди и, подобно культурным гражданам Афин времен Сократа, не любим, когда нам, вне зависимости от того, согласны мы с этим в душе или нет, напоминают, что даже в любви нами движут жажда власти, злость и потребность взять реванш.
О демоническом нельзя сказать, что оно является злом само по себе. Оно ставит нас перед очень сложным выбором — то ли использовать его осознанно, с чувством ответственности и ценности жизни, то ли — слепо и безрассудно.
3. Когда демоническое подавляется, оно имеет свойство в той или иной форме вырываться на поверхность (крайними формами являются политические убийства, патологические зверства, и прочие ужасы, ставшие, увы, яркой приметой нашего века).
Я остановлюсь на наиболее важных, по-моему, свойствах демонического и способах совладания с ним, а затем, если останется время, расскажу о понимании страстей в других психотерапевтических направлениях.
2. По-видимому, имеет смысл уточнить термин, поскольку название «демоническое» имеет коннотацию чего-то «дьявольского, нечистой силы» и т.п.
Между тем, греческое понятие «даймон» — источник нашего современного концепта — включало в себя и творческие способности поэта и художника, и способности нравственного и религиозного лидера, но также и заразительную энергию влюбленного.
Концепт «демоническое» представляется нам неприемлемым не по причине внутренних недостатков, а из-за наших отчаянных попыток отрицать то, что он обозначает. Это слишком сильный удар по нашему нарциссизму. Мы же «приличные» люди и, подобно культурным гражданам Афин времен Сократа, не любим, когда нам, вне зависимости от того, согласны мы с этим в душе или нет, напоминают, что даже в любви нами движут жажда власти, злость и потребность взять реванш.
О демоническом нельзя сказать, что оно является злом само по себе. Оно ставит нас перед очень сложным выбором — то ли использовать его осознанно, с чувством ответственности и ценности жизни, то ли — слепо и безрассудно.
3. Когда демоническое подавляется, оно имеет свойство в той или иной форме вырываться на поверхность (крайними формами являются политические убийства, патологические зверства, и прочие ужасы, ставшие, увы, яркой приметой нашего века).
Свойства демонического
1. Теперь подробнее о совладании (уже в этом слове, по-моему, немало о стратегии взаимодействия со страстями: совладание — «совместное владение») со страстями.
Демоническое может быть как созидательным так и разрушительным, и, как правило, является и тем, и другим одновременно.
Один из принципов— принцип самоотождествления с тем, что тебя преследует, не для того, чтобы с ним бороться, а для того, чтобы принять его в себя; ибо оно должно представлять какой-то подавляемый элемент нас самих.
Вы принимаете в себя демоническое, ибо в противном случае оно подчинит вас себе. Единственный способ справиться с подчиненностью демону — это подчинить его себе, смело взглянув ему в глаза, придя к соглашению с ним, включив его в себя. Но, справившись с «заточением» и провозгласив свою самостоятельность, индивид должен сам призвать демоническое вернуться на уровень сознания. В этом заключается здоровая зависимость зрелого человека.
2. Проблема всегда заключается в том, чтобы видеть обе стороны демонического, различать феномены внутреннего опыта переживаний индивида, не пытаясь при этом чрезмерно психологизировать нашу связь с природой, с судьбой и с основами нашего бытия.
Демоническое принадлежит к той сфере опыта, где дискурсивный, рациональный язык может рассказать только часть истории; и ограничиваясь этим дискурсивным языком, мы обедняем себя.
Жить в согласии со своим демоном (эвдемонизм) трудно, но чрезвычайно полезно. Демон нередко — это самая мрачная форма естественных устремлений, но если человек осознает наличие у него этих устремлений, он может до определенной степени ассимилировать и направить их. Демоническое уничтожает исключительно рационалистические планы и открывает личности глаза на имеющиеся у нее творческие возможности, о которых она даже не подозревала.
3. В эпоху эллинизма и в христианскую эпоху (и не только в религии) дуалистический раскол между положительной и отрицательной сторонами демона становится все более заметен. Согласно нашим теперешним представлениям, все небожители разделяются на два лагеря — чертей и ангелов. Первые следуют за своим вождем Сатаной, вторые служат Богу. И хотя эти представления никогда не имели вполне рационального объяснения, похоже, что в свое время человек надеялся на то, что при наличии такого раскола ему будет легче бороться с чертями.
Но хотя, расколов эту борьбу добра и зла на чертей и ангелов, эллины и первые христиане приобрели некоторый нравственный динамизм, многое все же было потеряно. Причем важно, что именно было потеряно: классическая организмическая концепция бытия — как объединяющего в себе созидательные и деструктивные возможности.
Мы видим начало проблемы, о которой говорил Рильке — если изгнать чертей, то и ангелы дадут деру.
4. Слово происходит от греческого diabolos. Интересно, что diabolos буквально означает «разрывать на части». Еще более интересно, что в греческом языке слово diabolos было антонимом слова simbolos, которое означало «соединять». Из этого можно сделать очень серьезные выводы насчет онтологии добра и зла. «Символическое» — это то, что соединяет; «дьявольское» — прямая его противоположность, оно разрушает и разрывает на части. Оба эти аспекта присутствуют в демоническом.
Когда ангел становится на путь независимого самоутверждения — называйте это гордыней, отказом соблюдать дисциплину или как хотите — вот тогда он способен привлечь наше внимание и даже вызвать восхищение. Он утверждает себя, он сам делает выбор, он осуществляет свою индивидуальную страсть. Если мы подумаем о Люцифере как о символическом олицетворении какого-то очень важного порыва в человеческой psyche, — стремления к развитию, к зреющей в индивиде новой форме, которую он потом видит в окружающем его мире — тогда это утверждение независимости выбора определенно является положительным аспектом развития.
Наше беспокойство должен вызывать тот ребенок, который в течение слишком долгого времени остается «ангелочком»; подросток-«чертенок» подает куда больше надежд на успешное развитие.
Рильке прав в своем желании сохранить в себе и ангелов, и дьяволов, потому что и те, и другие в равной мере необходимы. Вместе они составляют демоническое. И кто осмелится сказать, что дьяволы Рильке внесли в его поэзию меньший вклад, чем его ангелы?
Психотерапевтам понятно, что поддаваться искушению убежать от демонического просто потому, что оно представляет опасность, неконструктивно; в этом случае, устранение психологических проблем ведет к рутине «приспособленчества». Стало быть, такое «исцеление» людей — это прямая дорога к скуке.
Демоническое скрывается в том особом ударении, какое в своих работах Фрейд делает на «судьбе» и «роке», а также во многих его концептах вроде либидо, танатоса и инстинкта. В каждом из них содержится намек на то, что в нас живет сила, которая может подчинить нас, может превратить нас в «орудие природы», может погрузить нас в водоворот функций, которые сильнее нас. Если человек не сумеет найти контакт с этими неизбежными психобиологическими феноменами, это приведет его к патологии. Фрейд делал особое ударение на этой мысли — реалистичной, четкой и конструктивной (особенно по сравнению с викторианским отделением себя от природы). Ролло Мэй согласен и повторяет мнение профессора Моргана, который противопоставляет жесткий и суровый взгляд Фрейда на любовь взглядам тех позитивных мыслителей, которые дают современному человеку невыполнимые обещания.
«Никакое искусство любви Фромма, никакая утренняя гимнастика, никакой здоровый образ жизни, никакая либерально-утилитарная технология… не принесут мир на землю и добрую волю людям [по мнению Фрейда]. А причина фундаментально проста. Мы, люди, несем в себе, неустанно взращивая, семена нашего собственного уничтожения. Мы должны как любить, так и ненавидеть. Мы хотим как создавать и защищать себя и своих собратьев, так и уничтожать их».
5. Наиболее важным критерием, который спасает демоническое от анархии, является диалог.
Изначально мы воспринимаем демоническое как слепое влечение, толкающее нас к самоутверждению, как, скажем, в ярости или сексе.
Такое слепое влечение первично в двух отношениях: во-первых, это первоначальный способ восприятия демонического младенцем, но это также и тот путь, каким демоническое мгновенно поражает каждого из нас, независимо от возраста.
Первый крик, издаваемый младенцем, поистине является богатым символом: это ответ на ту первую вещь, что дает ему мир — шлепок доброй правой руки врача, принимающего роды. Я не только начинаю жизнь с крика; в течение первых нескольких недель я неразборчив в своих реакциях на раздражители. Я могу ударить, ожесточенно размахивая руками, нуждаясь в том, чтобы меня покормили, и требуя этого — поступая, подобно «маленькому диктатору». Но вскоре я начинаю осознавать, что некоторые мои требования действенны, а некоторые нет. Мои слепые влечения теперь все больше и больше «просеиваются» через контекст, образующийся из того, что позволяет получить желаемое; начинается длительный процесс постижения науки окультуривания демонических влечений.
Следующая стадия после безличной, как в развитии младенца, так и в каждом непосредственном переживании взрослого, состоит в том, чтобы сделать демоническое личным.
Если мы сможем направить в нужное русло демоническое, мы сможет стать более индивидуализированными; если мы позволим ему рассеяться, то станем анонимными.
Задача человека, по мере углубления и расширения его сознания, состоит в том, чтобы включить демоническое в структуру своего Я.
Для того чтобы сделать анонимное личным, необходимо не поддаться свойственному демоническому уклону в анонимность. Это означает расширение нашей способности разрывать автоматическую цепь раздражителя и реакции; тогда мы сможем, в какой-то мере выбирать, на что реагировать, а на что не реагировать.
Признав, что существуют рациональные критерии оценки демонического, мы не должны забывать главного и наиболее сложного для понимания — что полная рационализация демонического невозможна. Демоническое всегда будет отмечено парадоксом, объясняющимся тем фактом, что оно потенциально и созидательно и разрушительно одновременно.
6. Это самый важный вопрос, стоящий перед современной психотерапией, и вместе с тем судьбоносный — ибо от этого зависит успешное развитие и жизнеспособность самой терапии. Если мы попытаемся уйти от дилеммы демонического, как это намеренно или ненамеренно делают многие терапевты, помогая пациенту только приспособиться к обществу, предлагая ему определенные привычки», которые, по нашему мнению, подойдут ему лучше, или переделывая его таким образом, чтобы он соответствовал культуре, то в таком случае все наши усилия неизбежно сведутся к манипулированию им. И тогда следует согласиться с Рильке: если он откажется от своих демонов, то потеряет также и своих ангелов.
Демоническое, как часть эроса, как то, что лежит в основе и любви, и воли, подобно оводу не дает покоя нашему сознанию, ставя нас перед лицом нескончаемых дилемм. Углубление и расширение рамок сознания, к которому мы стремимся в психотерапии, состоит не в разрешении этих дилемм — что в любом случае невозможно — а в такой позиции по отношению к ним, чтобы суметь подняться до более высокого уровня личной и межличностной цельности.
Демоническое может быть как созидательным так и разрушительным, и, как правило, является и тем, и другим одновременно.
Один из принципов— принцип самоотождествления с тем, что тебя преследует, не для того, чтобы с ним бороться, а для того, чтобы принять его в себя; ибо оно должно представлять какой-то подавляемый элемент нас самих.
Вы принимаете в себя демоническое, ибо в противном случае оно подчинит вас себе. Единственный способ справиться с подчиненностью демону — это подчинить его себе, смело взглянув ему в глаза, придя к соглашению с ним, включив его в себя. Но, справившись с «заточением» и провозгласив свою самостоятельность, индивид должен сам призвать демоническое вернуться на уровень сознания. В этом заключается здоровая зависимость зрелого человека.
2. Проблема всегда заключается в том, чтобы видеть обе стороны демонического, различать феномены внутреннего опыта переживаний индивида, не пытаясь при этом чрезмерно психологизировать нашу связь с природой, с судьбой и с основами нашего бытия.
Демоническое принадлежит к той сфере опыта, где дискурсивный, рациональный язык может рассказать только часть истории; и ограничиваясь этим дискурсивным языком, мы обедняем себя.
Жить в согласии со своим демоном (эвдемонизм) трудно, но чрезвычайно полезно. Демон нередко — это самая мрачная форма естественных устремлений, но если человек осознает наличие у него этих устремлений, он может до определенной степени ассимилировать и направить их. Демоническое уничтожает исключительно рационалистические планы и открывает личности глаза на имеющиеся у нее творческие возможности, о которых она даже не подозревала.
3. В эпоху эллинизма и в христианскую эпоху (и не только в религии) дуалистический раскол между положительной и отрицательной сторонами демона становится все более заметен. Согласно нашим теперешним представлениям, все небожители разделяются на два лагеря — чертей и ангелов. Первые следуют за своим вождем Сатаной, вторые служат Богу. И хотя эти представления никогда не имели вполне рационального объяснения, похоже, что в свое время человек надеялся на то, что при наличии такого раскола ему будет легче бороться с чертями.
Но хотя, расколов эту борьбу добра и зла на чертей и ангелов, эллины и первые христиане приобрели некоторый нравственный динамизм, многое все же было потеряно. Причем важно, что именно было потеряно: классическая организмическая концепция бытия — как объединяющего в себе созидательные и деструктивные возможности.
Мы видим начало проблемы, о которой говорил Рильке — если изгнать чертей, то и ангелы дадут деру.
4. Слово происходит от греческого diabolos. Интересно, что diabolos буквально означает «разрывать на части». Еще более интересно, что в греческом языке слово diabolos было антонимом слова simbolos, которое означало «соединять». Из этого можно сделать очень серьезные выводы насчет онтологии добра и зла. «Символическое» — это то, что соединяет; «дьявольское» — прямая его противоположность, оно разрушает и разрывает на части. Оба эти аспекта присутствуют в демоническом.
Когда ангел становится на путь независимого самоутверждения — называйте это гордыней, отказом соблюдать дисциплину или как хотите — вот тогда он способен привлечь наше внимание и даже вызвать восхищение. Он утверждает себя, он сам делает выбор, он осуществляет свою индивидуальную страсть. Если мы подумаем о Люцифере как о символическом олицетворении какого-то очень важного порыва в человеческой psyche, — стремления к развитию, к зреющей в индивиде новой форме, которую он потом видит в окружающем его мире — тогда это утверждение независимости выбора определенно является положительным аспектом развития.
Наше беспокойство должен вызывать тот ребенок, который в течение слишком долгого времени остается «ангелочком»; подросток-«чертенок» подает куда больше надежд на успешное развитие.
Рильке прав в своем желании сохранить в себе и ангелов, и дьяволов, потому что и те, и другие в равной мере необходимы. Вместе они составляют демоническое. И кто осмелится сказать, что дьяволы Рильке внесли в его поэзию меньший вклад, чем его ангелы?
Психотерапевтам понятно, что поддаваться искушению убежать от демонического просто потому, что оно представляет опасность, неконструктивно; в этом случае, устранение психологических проблем ведет к рутине «приспособленчества». Стало быть, такое «исцеление» людей — это прямая дорога к скуке.
Демоническое скрывается в том особом ударении, какое в своих работах Фрейд делает на «судьбе» и «роке», а также во многих его концептах вроде либидо, танатоса и инстинкта. В каждом из них содержится намек на то, что в нас живет сила, которая может подчинить нас, может превратить нас в «орудие природы», может погрузить нас в водоворот функций, которые сильнее нас. Если человек не сумеет найти контакт с этими неизбежными психобиологическими феноменами, это приведет его к патологии. Фрейд делал особое ударение на этой мысли — реалистичной, четкой и конструктивной (особенно по сравнению с викторианским отделением себя от природы). Ролло Мэй согласен и повторяет мнение профессора Моргана, который противопоставляет жесткий и суровый взгляд Фрейда на любовь взглядам тех позитивных мыслителей, которые дают современному человеку невыполнимые обещания.
«Никакое искусство любви Фромма, никакая утренняя гимнастика, никакой здоровый образ жизни, никакая либерально-утилитарная технология… не принесут мир на землю и добрую волю людям [по мнению Фрейда]. А причина фундаментально проста. Мы, люди, несем в себе, неустанно взращивая, семена нашего собственного уничтожения. Мы должны как любить, так и ненавидеть. Мы хотим как создавать и защищать себя и своих собратьев, так и уничтожать их».
5. Наиболее важным критерием, который спасает демоническое от анархии, является диалог.
Изначально мы воспринимаем демоническое как слепое влечение, толкающее нас к самоутверждению, как, скажем, в ярости или сексе.
Такое слепое влечение первично в двух отношениях: во-первых, это первоначальный способ восприятия демонического младенцем, но это также и тот путь, каким демоническое мгновенно поражает каждого из нас, независимо от возраста.
Первый крик, издаваемый младенцем, поистине является богатым символом: это ответ на ту первую вещь, что дает ему мир — шлепок доброй правой руки врача, принимающего роды. Я не только начинаю жизнь с крика; в течение первых нескольких недель я неразборчив в своих реакциях на раздражители. Я могу ударить, ожесточенно размахивая руками, нуждаясь в том, чтобы меня покормили, и требуя этого — поступая, подобно «маленькому диктатору». Но вскоре я начинаю осознавать, что некоторые мои требования действенны, а некоторые нет. Мои слепые влечения теперь все больше и больше «просеиваются» через контекст, образующийся из того, что позволяет получить желаемое; начинается длительный процесс постижения науки окультуривания демонических влечений.
Следующая стадия после безличной, как в развитии младенца, так и в каждом непосредственном переживании взрослого, состоит в том, чтобы сделать демоническое личным.
Если мы сможем направить в нужное русло демоническое, мы сможет стать более индивидуализированными; если мы позволим ему рассеяться, то станем анонимными.
Задача человека, по мере углубления и расширения его сознания, состоит в том, чтобы включить демоническое в структуру своего Я.
Для того чтобы сделать анонимное личным, необходимо не поддаться свойственному демоническому уклону в анонимность. Это означает расширение нашей способности разрывать автоматическую цепь раздражителя и реакции; тогда мы сможем, в какой-то мере выбирать, на что реагировать, а на что не реагировать.
Признав, что существуют рациональные критерии оценки демонического, мы не должны забывать главного и наиболее сложного для понимания — что полная рационализация демонического невозможна. Демоническое всегда будет отмечено парадоксом, объясняющимся тем фактом, что оно потенциально и созидательно и разрушительно одновременно.
6. Это самый важный вопрос, стоящий перед современной психотерапией, и вместе с тем судьбоносный — ибо от этого зависит успешное развитие и жизнеспособность самой терапии. Если мы попытаемся уйти от дилеммы демонического, как это намеренно или ненамеренно делают многие терапевты, помогая пациенту только приспособиться к обществу, предлагая ему определенные привычки», которые, по нашему мнению, подойдут ему лучше, или переделывая его таким образом, чтобы он соответствовал культуре, то в таком случае все наши усилия неизбежно сведутся к манипулированию им. И тогда следует согласиться с Рильке: если он откажется от своих демонов, то потеряет также и своих ангелов.
Демоническое, как часть эроса, как то, что лежит в основе и любви, и воли, подобно оводу не дает покоя нашему сознанию, ставя нас перед лицом нескончаемых дилемм. Углубление и расширение рамок сознания, к которому мы стремимся в психотерапии, состоит не в разрешении этих дилемм — что в любом случае невозможно — а в такой позиции по отношению к ним, чтобы суметь подняться до более высокого уровня личной и межличностной цельности.
Стратегия совладания со страстями
Еще один аспект совладания с демоническим—это демоническое и знание.
Наше рвение в приобретении знаний основано на допущении, что это улица с односторонним движением — чем больше знаний, тем лучше, но мы забываем об амбивалентном, двойственном характере знания, о том, что оно бывает и опасно.
Мы так много слышим сегодня о том, что знания дают власть, уверенность в будущем, финансовый успех и так далее, что упускаем из виду тот факт, что само слово, означающее приобретение знаний, «apprehend» [«постигать»], также служит и для обозначения страха, «apprehension» [«опасение», «страх»]. Заглянув в Словарь Вебстера, мы находим следующее определение слова «apprehend» — «постигать, узнавать значение, добиваться понимания»; а непосредственно за ним идет значение «предчувствовать с тревогой, опасаться или бояться». То же самое и с «apprehension»: первое значение — «способность постигать умом», второе — «опасение или дурное предчувствие». Для нас, возможно, ближе: «В многая знаний много печали». Не может быть случайностью, что в самом строении нашего языка заложена эта связь между знанием и демоническим. «Как опасно знать, — можем мы сказать вслед за Эдипом. — Но тем не менее я должен знать». Знать опасно, но не знать — еще опаснее.
Менее всего может позволить себе забыть об этом терапевт.
Клиенты обращаются за помощью, казалось бы, в готовности принять любые откровения о них самих. Но горе тому терапевту, который принимает это за чистую монету! Весь смысл сопротивления и подавления свидетельствует о том, что этим разоблачениям нашего Я сопутствуют боль и тревога. В этом одна из причин того, почему хорошо, когда пациент платит за сеансы лечения; если он так мало берет из того, за что платит, то из предлагаемого бесплатно он едва ли вообще что-либо возьмет. Это дает нам новый подход к концепциям сопротивления и подавления — в них проявляется неизбежная потребность человека прятаться от истины о самом себе.
Это вечный спорный вопрос: Как много знаний о самом себе может выдержать человек?
Воплощение человека, познавшего себя и заплатившего за это максимальную цену – Эдип. Ему прекрасно известен разрушительный аспект знания: «О, я боюсь услышать, — восклицает он, — но все же я должен услышать». Тиресий и жена Иокаста пытаются уговорить его не искать истину: «Как ужасно знать, если знание не сулит ничего хорошего». Суть драмы заключается в том, должен ли Эдип знать, что он сделал? Должен ли Эдип знать, кто он такой и каково его происхождение? На самом деле единственное различие между Эдипом и остальным человечеством состоит в том, что Эдип смело взглянул в лицо тому, что он сделал, и признал содеянное им, несмотря на все предпринятые попытки убедить его отказаться от этого.
Итак, мы подошли к положительному и целительному аспекту знания в его отношении к демоническому. «В начале было Слово», и Слово всегда было удивительным и сложным образом соотнесено с демоническим.
Обратимся, например, к склонности алкоголика всячески избегать своей проблемы, называя ее как угодно, но только не алкоголизмом; в выразительном изречении. Уильям Джемс, говорит о лечебном эффекте, наблюдающемся, когда алкоголик, и любой другой пациент, отваживается «назвать вещи своими именами»: «Если он [алкоголик] однажды оказывается способным изо всех возможных точек зрения, какие бы ни предлагались ему, выбрать и прочно усвоить одну, а именно — что он пьяница, и ничего более, то вряд ли он еще долго будет оставаться таковым. Усилие, посредством которого ему удается твердо удерживать это точное имя в своем уме, оказывается его спасительным моральным свершением». (Уильям Джемс, «Принципы психологии»).
Разумеется, для нас в этом высказывании нет ничего нового, но вспомним, сколько мужества нужно алкоголику, чтобы продвинуться к этому знанию о себе, чтобы сделать этот первый шаг (и не только в 12 шагах).
Обычно человек преодолевает демоническое, давая ему имя.
Таким образом человек формирует личностный смысл из того, что ранее было просто угрожающим ему безличным хаосом.
В именовании демонического наблюдается очевидная и интересная параллель эффекта именования в современной медицинской и психологической терапии. Облегчение наступает, скорее, от акта противостояния демоническому миру заболевания посредством имени. Параллель с психотерапией здесь даже ближе, чем с медициной.
Многие терапевты, подобно Аллену Уилису, говорят о своей задаче как об «именовании бессознательного».
Но именно здесь и лежит самая большая опасность в терапевтическом процессе: она заключается в том, что именование может стать для пациента не средством исцеления, а его замещением. Он может отрешиться, ощутив временную безопасность от постановки диагноза, разговоров о симптомах, и раскладывания их по полочкам, а затем и вовсе избавить себя от необходимости волевого действия вообще и в любви в частности. Это отвечает основному защитному механизму современного человека — интеллектуализации, то есть использованию слов как заменителей чувств и переживаний.
Слово всегда балансирует на грани между опасностями сокрытия демонического и его разоблачения.
Когда терапия исцеляет от демонического, успокаивает его или другими путями уводит от прямой встречи с ним, то это скорее ее неудача, чем успех (и здесь я вижу выгодное отличие гештальт-терапии).
Наше рвение в приобретении знаний основано на допущении, что это улица с односторонним движением — чем больше знаний, тем лучше, но мы забываем об амбивалентном, двойственном характере знания, о том, что оно бывает и опасно.
Мы так много слышим сегодня о том, что знания дают власть, уверенность в будущем, финансовый успех и так далее, что упускаем из виду тот факт, что само слово, означающее приобретение знаний, «apprehend» [«постигать»], также служит и для обозначения страха, «apprehension» [«опасение», «страх»]. Заглянув в Словарь Вебстера, мы находим следующее определение слова «apprehend» — «постигать, узнавать значение, добиваться понимания»; а непосредственно за ним идет значение «предчувствовать с тревогой, опасаться или бояться». То же самое и с «apprehension»: первое значение — «способность постигать умом», второе — «опасение или дурное предчувствие». Для нас, возможно, ближе: «В многая знаний много печали». Не может быть случайностью, что в самом строении нашего языка заложена эта связь между знанием и демоническим. «Как опасно знать, — можем мы сказать вслед за Эдипом. — Но тем не менее я должен знать». Знать опасно, но не знать — еще опаснее.
Менее всего может позволить себе забыть об этом терапевт.
Клиенты обращаются за помощью, казалось бы, в готовности принять любые откровения о них самих. Но горе тому терапевту, который принимает это за чистую монету! Весь смысл сопротивления и подавления свидетельствует о том, что этим разоблачениям нашего Я сопутствуют боль и тревога. В этом одна из причин того, почему хорошо, когда пациент платит за сеансы лечения; если он так мало берет из того, за что платит, то из предлагаемого бесплатно он едва ли вообще что-либо возьмет. Это дает нам новый подход к концепциям сопротивления и подавления — в них проявляется неизбежная потребность человека прятаться от истины о самом себе.
Это вечный спорный вопрос: Как много знаний о самом себе может выдержать человек?
Воплощение человека, познавшего себя и заплатившего за это максимальную цену – Эдип. Ему прекрасно известен разрушительный аспект знания: «О, я боюсь услышать, — восклицает он, — но все же я должен услышать». Тиресий и жена Иокаста пытаются уговорить его не искать истину: «Как ужасно знать, если знание не сулит ничего хорошего». Суть драмы заключается в том, должен ли Эдип знать, что он сделал? Должен ли Эдип знать, кто он такой и каково его происхождение? На самом деле единственное различие между Эдипом и остальным человечеством состоит в том, что Эдип смело взглянул в лицо тому, что он сделал, и признал содеянное им, несмотря на все предпринятые попытки убедить его отказаться от этого.
Итак, мы подошли к положительному и целительному аспекту знания в его отношении к демоническому. «В начале было Слово», и Слово всегда было удивительным и сложным образом соотнесено с демоническим.
Обратимся, например, к склонности алкоголика всячески избегать своей проблемы, называя ее как угодно, но только не алкоголизмом; в выразительном изречении. Уильям Джемс, говорит о лечебном эффекте, наблюдающемся, когда алкоголик, и любой другой пациент, отваживается «назвать вещи своими именами»: «Если он [алкоголик] однажды оказывается способным изо всех возможных точек зрения, какие бы ни предлагались ему, выбрать и прочно усвоить одну, а именно — что он пьяница, и ничего более, то вряд ли он еще долго будет оставаться таковым. Усилие, посредством которого ему удается твердо удерживать это точное имя в своем уме, оказывается его спасительным моральным свершением». (Уильям Джемс, «Принципы психологии»).
Разумеется, для нас в этом высказывании нет ничего нового, но вспомним, сколько мужества нужно алкоголику, чтобы продвинуться к этому знанию о себе, чтобы сделать этот первый шаг (и не только в 12 шагах).
Обычно человек преодолевает демоническое, давая ему имя.
Таким образом человек формирует личностный смысл из того, что ранее было просто угрожающим ему безличным хаосом.
В именовании демонического наблюдается очевидная и интересная параллель эффекта именования в современной медицинской и психологической терапии. Облегчение наступает, скорее, от акта противостояния демоническому миру заболевания посредством имени. Параллель с психотерапией здесь даже ближе, чем с медициной.
Многие терапевты, подобно Аллену Уилису, говорят о своей задаче как об «именовании бессознательного».
Но именно здесь и лежит самая большая опасность в терапевтическом процессе: она заключается в том, что именование может стать для пациента не средством исцеления, а его замещением. Он может отрешиться, ощутив временную безопасность от постановки диагноза, разговоров о симптомах, и раскладывания их по полочкам, а затем и вовсе избавить себя от необходимости волевого действия вообще и в любви в частности. Это отвечает основному защитному механизму современного человека — интеллектуализации, то есть использованию слов как заменителей чувств и переживаний.
Слово всегда балансирует на грани между опасностями сокрытия демонического и его разоблачения.
Когда терапия исцеляет от демонического, успокаивает его или другими путями уводит от прямой встречи с ним, то это скорее ее неудача, чем успех (и здесь я вижу выгодное отличие гештальт-терапии).
Демоническое и знание
И, наконец, о той неизбежной цене, которую платит клиент (пациент) за «путь к себе»: завершение творческих трудов приносит человеку чувство облегчения и ощущение своего роста как личности, но в то же время оставляет увечья.
После мучительной работы, на которую ушли годы, люди нередко заявляют: «Я уже никогда не буду таким, как прежде». Это боль после борьбы, нависшая угроза невроза или шизофренического раскола, хотя человек, прошедший через борьбу одновременно может быть более зрелой личностью, чем прежде.
Ван Гог был искалечен; Ницше был искалечен; Кьеркегор был искалечен.
Творческая личность существует на лезвии бритвы высшего уровня сознания.
Ни один человек не может увидеть Бога — и остаться в живых; но Иаков увидел Бога — должен был — и, хотя остался в живых, не избежал увечья.
В этом парадокс сознания.
Сколько знания о самом себе может вынести человек? Разве творчество не приводит человека к границам сознания и не толкает его по ту сторону? Разве это не требует усилий и отваги, превосходящих человеческие возможности? Но разве это также не отодвигает границы сознания настолько, что те, кто идет следом, подобно первым поселенцам Америки, могут возводить города и жить в них? Это загадка. Самое простейшее объяснение, вероятно, заключается в том, что в творческом акте индивид делает еще один шаг от невинности ребенка или от девственного состояния Адама и Евы. Пропасть между «сущностью» и «существованием» углубляется. Высшие уровни сознания, необходимые для поистине творческого акта, — соизмеримого с вершинами мысли Блейка, Ницше, Кьеркегора, Ибсена, Тиллиха и немногих других, кто бросал вызов самому Богу, — граничат с шизофренией. И человек может переступить эту грань между творчеством и шизофренией, переходя от одного к другому. Все это можно прочесть в глазах человека, который «боролся с Богом, и человеков одолевать будет».
Настойчивость и полная самоотдача необходимы уже для того, чтобы подойти к этой границе, и хотя такой ценой достигается истинное самоосознание, человек не может пройти через это и остаться невредимым.
Сказанное, по-моему, имеет прямое отношение к психотерапии: настоящая психотерапия—всегда творчество. Не всегда, слава Богу, речь идет о границе с психозом, но потери неизбежны. Однако, приобретения на порядок больше.
В заключение хочу подчеркнуть, что очень многое из сказанного выше гештальт-терапевтам знакомо и без Ролло Мэя. Вполне прозрачны пересечения с понятием об интеграции противоположностей, с принятием чувств и ответственности, парадоксальной теорией изменения Бейссера и, конечно, с главным инструментом гештальт-метода, осознаванием. Что же нового? Для меня, кроме прекрасного языка (Р.Мэй за эту работу получил Пулитцеровскую премию, а вышла она в 1969 г.) это еще наглядное доказательство того, что гештальт-терапия—экзистенциальная терапия. Кажется, Лаура Перлз предлагала и такое название. Способность терапевта за «кухонными» проблемами клиента увидеть способ его бытия в мире и помочь ему осознать это очень дорогого (и в прямом смысле тоже) стоят. Тогда по-новому будет звучать для клиента частая полуироническая фраза терапевта в конце сессии: «И это твоя жизнь».
После мучительной работы, на которую ушли годы, люди нередко заявляют: «Я уже никогда не буду таким, как прежде». Это боль после борьбы, нависшая угроза невроза или шизофренического раскола, хотя человек, прошедший через борьбу одновременно может быть более зрелой личностью, чем прежде.
Ван Гог был искалечен; Ницше был искалечен; Кьеркегор был искалечен.
Творческая личность существует на лезвии бритвы высшего уровня сознания.
Ни один человек не может увидеть Бога — и остаться в живых; но Иаков увидел Бога — должен был — и, хотя остался в живых, не избежал увечья.
В этом парадокс сознания.
Сколько знания о самом себе может вынести человек? Разве творчество не приводит человека к границам сознания и не толкает его по ту сторону? Разве это не требует усилий и отваги, превосходящих человеческие возможности? Но разве это также не отодвигает границы сознания настолько, что те, кто идет следом, подобно первым поселенцам Америки, могут возводить города и жить в них? Это загадка. Самое простейшее объяснение, вероятно, заключается в том, что в творческом акте индивид делает еще один шаг от невинности ребенка или от девственного состояния Адама и Евы. Пропасть между «сущностью» и «существованием» углубляется. Высшие уровни сознания, необходимые для поистине творческого акта, — соизмеримого с вершинами мысли Блейка, Ницше, Кьеркегора, Ибсена, Тиллиха и немногих других, кто бросал вызов самому Богу, — граничат с шизофренией. И человек может переступить эту грань между творчеством и шизофренией, переходя от одного к другому. Все это можно прочесть в глазах человека, который «боролся с Богом, и человеков одолевать будет».
Настойчивость и полная самоотдача необходимы уже для того, чтобы подойти к этой границе, и хотя такой ценой достигается истинное самоосознание, человек не может пройти через это и остаться невредимым.
Сказанное, по-моему, имеет прямое отношение к психотерапии: настоящая психотерапия—всегда творчество. Не всегда, слава Богу, речь идет о границе с психозом, но потери неизбежны. Однако, приобретения на порядок больше.
В заключение хочу подчеркнуть, что очень многое из сказанного выше гештальт-терапевтам знакомо и без Ролло Мэя. Вполне прозрачны пересечения с понятием об интеграции противоположностей, с принятием чувств и ответственности, парадоксальной теорией изменения Бейссера и, конечно, с главным инструментом гештальт-метода, осознаванием. Что же нового? Для меня, кроме прекрасного языка (Р.Мэй за эту работу получил Пулитцеровскую премию, а вышла она в 1969 г.) это еще наглядное доказательство того, что гештальт-терапия—экзистенциальная терапия. Кажется, Лаура Перлз предлагала и такое название. Способность терапевта за «кухонными» проблемами клиента увидеть способ его бытия в мире и помочь ему осознать это очень дорогого (и в прямом смысле тоже) стоят. Тогда по-новому будет звучать для клиента частая полуироническая фраза терапевта в конце сессии: «И это твоя жизнь».
Цена знания
1. Куттер П. Психоанализ страстей. 1998.
2. Лайша Н.А. Страсть как мотив поведения человека и причина нервно-психических заболеваний. – http://pms.orthodoxy.ru
3. Мэй Р. Любовь и воля. М., 1997.
4. Наранхо К. Характер и невроз.
5. Флоренская Т.А. Святоотеческое учение о страстях и психотерапия. – Московский психотерапевтический журнал, 2003, № 3.
2. Лайша Н.А. Страсть как мотив поведения человека и причина нервно-психических заболеваний. – http://pms.orthodoxy.ru
3. Мэй Р. Любовь и воля. М., 1997.
4. Наранхо К. Характер и невроз.
5. Флоренская Т.А. Святоотеческое учение о страстях и психотерапия. – Московский психотерапевтический журнал, 2003, № 3.
Литература