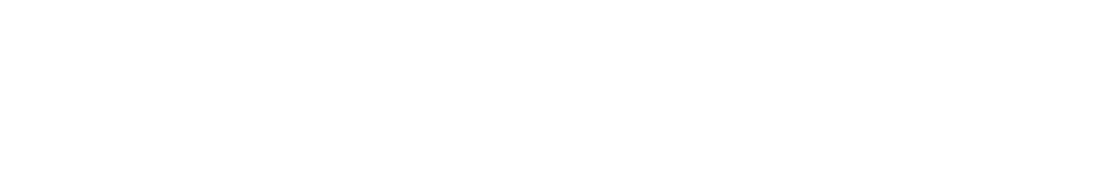Заметки об искусстве и симптомах
Michael Vincent Miller - Notes on Art and Symptoms
Впервые опубликовано в «The Gestalt Journal» в 1980 году.
(Перевод Ирины Захарян)
Гештальттерапия широко пользуется определениями, обычно относящимися к искусству. Она делает это на гораздо более глубоком основании, чем простое привлечение актуальных сравнений и метафор из области искусства, иллюстрирующих психологические принципы. Более того, «сам по себе гештальт – это эстетический концепт», как сказала Лаура Перлз в интервью «Выступая из тени» (разговор с Эдвардом Розенфельдом 1978 года)(1). Она и Пол Гудмен – первооткрываетели того, что входит в гештальттерапию вместе с занятиями искусством. Можно найти эти размышления в записях Лауры Перлз, которые, к сожалению, разрозненны и немногочисленны. Она, однако, постоянно и последовательно вносила их в свою преподавательскую работу. Если же мы ищем последовательное письменное изложение этих идей, нам нужно читать Гудмена. В написанной им части книги, выпущенной вместе с Фрицем Перлзом и Ральфом Хефферлином (2), Гудмен рассматривает гештальттерапию в контексте эстетических ценностей и психологических оснований; эта книга и сегодня остается важнейшим вкладом в теорию гештальттерапии, который у нас есть.
Почему искусство сыграло такую центральную роль в развитии гештальттерапии? Во-первых, она развивалась клиницистами и мыслителями, в разной степени, но все-таки занимавшимися искусством. Так, Гудмен внес не только важный вклад в теорию нового вида психотерапии, он писал стихи, романы, пьесы, так же как социальную и литературную критику. Лаура Перлз в юности еще в Германии училась музыке и современному танцу, откуда идет ее большой практический интерес к движениям и ритмам тела в терапевтической работе с клиентами. Фредерик Перлз в юности учился театральному делу у Макса Райнхардта.
Перлз ориетировался в терапии не только на искусство. Однако его ранний интерес к театру определенно повлиял на его терапевтический стиль и метод преподавания. Отсюда идет его работа с «горячим стулом» и его интерес к представлению невроза «на сцене внутренней жизни». Так же Лаура Перлз и Поль Гудмен, которые некоторое время тесно сотрудничали и оказывали влияние друг на друга, считали искусство идеальным примером развития и разворачивания человеческой активности. Этот идеал стал путеводной нитью, мерой здоровья и болезни для практической психотерапии.
Кроме того, есть особые основания для того, чтобы искусство представляло лучшую модель для развития гештальттерапии. Принципы, пришедшие в гештальттерапию из экспериментальной гештальт-психологии, дают импульс к рассмотрению опыта с эстетической точки зрения. Исследования процессов восприятия и мышления гештальт-психологов, Келера, Кофки, Вертхаймера показали, что человек склонен организовывать свой опыт в целостности, которые — благодаря своей форме, структуре и единообразию частей – узнаваемы. Гештальттерапия развила этот тезис и указала на то, что активность (деятельность) тогда является здоровой, когда она протекает в творческой автономии. Отсюда вытекает рассуждение о том, что люди могут лучше всего развивать свои природные возможности, когда им дается свободное пространство для самостоятельного устройства жизни при минимальном внешнем воздействии. Это один из источников гештальттерапевтического радикализма, принимающего анархическую позицию и противостоящего так называемым «либеральным» идеологиям, которые предполагают манипуляции индивида экспертами, детей родителями, клиента бихевиоральными техниками или авторитетом врача.
Этот анархический радикализм происходит отчасти от ценностей искусства. (…)
Психотерапия и искусство часто сравнивались, но простое сравнение мало что дает. Что толку говорить, что и то, и другое – творческие активности, или «выражать себя терапевтично», или «терапевт меньше ученый, чем художник».
Однако искусство и терапия действительно имеют внутреннюю общность, проистекающую из глубокого источника человеческой природы: потребности человека оформлять и преобразовывать свои отношения с миром. Оба используют формальные подходы и способности для направленного воздействия. Оба получают опыт в определенных рамках или через посредника, так что оказываются вырванными из потока повседневности. Оба для этого «нового» выговаривают, вытанцовывают, ставят не сцене, конденсируют, короче – ре-организуют жизнь. С какой целью? В искусстве художественный продукт – самостоятельная цель. В терапии таким художественным продуктом становится сам человек и его жизнь.
Еще одна общая цель: поднять нечто новое из жизненных оснований, пролить новый свет на старых знакомых. В самом деле, большие произведения искусства кажутся скрывающими неисчерпаемый источник информации. Человек может снова и снова погружаться в произведение искусства и каждый раз выходить обновленным. Об этом говорит Эзра Паунд: «Поэзия всегда нова, и новой остается». Как она этого добивается, часто остается тайной.
Однако психолог и философ искусства Рудольф Арнхайм предлагает частичное объяснение этой загадке. Он говорит, что «слово «информация» буквально обозначает «придание формы», а форма нуждается в структуре» (3). Поэтому вопрос о новой информации в искусстве и психотерапии выглядит только на первый взгляд таким отличающимся от принципиального вопроса о форме. Оба несут новую информацию через перестройку уже знакомого. Оба создают новую форму, которая прошлое соединяет с настоящим, старые правила и привычки с новыми возможностями (с этой точки зрения принцип поэтического творчества Вордсворта – «чувство, которое заново спокойно обдумано» — близко к фрейдовскому пониманию свободных ассоциаций). Таким образом они дают повод к открытиям и делают более вероятным, что забытое, незамеченное или подавленное снова выйдет на свет.
Можно рассматривать мечты, фантазии и все подобное под этим углом зрения. Они по сути создания, но сами по себе еще не произведения искусства и не терапевтические открытия. Мы – создатели наших снов, но для искусства и терапии решающим является процесс пересоздания их заново и дальнейшей переработки. Хотя иногда в программах и практике терапии и искусства эта разница стирается. Так, в начале XX века некоторые сюрреалисты, писатели и художники под влиянием романтического восприятия открытий Фрейда считали, что через свободное ассоциирование раскрывается бессознательное, и искусство бьет неостановимым потоком. На рубеже веков французский писатель Лотреамон провозгласил: «Красота – это возможность, что швейная машинка и зонтик неожиданно встретятся на столе паталогоанатома». Это в лучшем случае гротескное, но не чересчур точное определение многими сюрреалистами принималось как теория искусства.
Итак, сюрреалистическая программа ошибочно принимала материал снов за завершенное искусство (хотя, конечно, большая сюрреалистическая поэзия и живопись перешагивали границы собственных программ и обращались к интенсивному преобразованию форм). Это напоминает некоторые тенденции в психотерапии, которые выражение чувств или путешествие в мир мыслей, так называемое «направленное фантазирование», воспринимают как терапию. Хорошие терапевты, напротив, как и хорошие литераторы, рассматривают сны, воспоминания и чувства как нечто незавершенное. Когда клиент приносит психоаналитику свой сон, терапевт интерпретирует его символическое значение и соответствующие мысли пациента; тем самым он завершает сон. Гештальттерапевт со своей стороны может подвигнуть клиента перенести сон как новый опыт на сцену, чтобы свои отношения в прошлом связать с живыми моментами настоящего. Разница сравнима с разницей между семинаром по истории литературы и мастерской художественного письма.
Как протекает повседневная человеческая жизнь? Она редко включает в себя произведение искусства или терапевтическую сессию. Психотерапия находится с жизнью в таких же отношениях, как искусство: оба являются специализированными видами деятельности со структурными и качественными отличиями от повседневной жизни. Так же как их ценность отвечает одному общему источнику, глубоко укорененной в человеке силе создавать формы и так переформировывать опыт, чтобы возникали новые целостности. Эта способность так глубоко закреплена в человеческом сознании и деятельности, что можно ее рассматривать как общий источник знаний, роста и изменения.
Поэтому таким выигрышным для психологии и психотерапии может быть понимание искусства. Гештальттерапия выражает это термином «контакт», термином не очень точным и в последнее время профессионально заезженным, означающим способность человека встречаться с окружающим его миром, проникать в него и выигрывать для себя что-то новое. Контакт не означает механического приспособления к миру, т.к. человек – дающее форму и выстраивающее связи существо.
Гештальттерапия не знает истин в смысле учения о том, как с пациентом «правильно» обращаться и общаться. Она следует убеждению, что когда человек именно так себя ведет и говорит, как правильно именно для него, тогда он развивает в своей активности именно те качества, которые мы ожидаем от искусства: изящество и экономичность, необходимость и подвижность. Другими словами, контакт отвечает определению «истина есть красота».
Отсюда следует, что хорошая жизнь (точнее сказать «здоровая» жизнь, т.к. сегодня в нашей культуре моральное измерение замещается терапевтическим) хорошо оформлена и выглядит красиво. При этом ее невозможно представить безмятежной; это было бы слишком далеко от реальности, чтобы нас надолго заинтересовать. Произведение искусства, которое нас трогает и привлекает, заключает в себе серьезно воспринимаемые жизненные элементы борьбы и примирения, выдержанных испытаний, болезненных препятствий, трудностей и страданий, точно так же как красоты и радости. Это слишком многопланово, чтобы свести все к райскому саду. В Средние века и в эпоху Ренессанса некоторые теологи говорили о «felix culpa», счастливых грехах, которые выводят нас из наивного спокойствия сада и вносят плодотворные испытания в нашу жизнь.
Я хочу подчеркнуть, что этот взгляд на человеческое существование не является простой игрой ума. Более того, в этом представлении есть нечто глубоко моральное, относящееся, на мой взгляд, к самой сути гештальттерапии. Слишком многие так называемые гуманистические психотерапевты, как и многие гештальттерапевты, стараются в благородном рвении очиститься от последствий давящего пуританства, выбросить за борт все решения о том, что хорошо и что плохо. Я признаю, что человек должен бороться с морализаторством, которое с помощью предписаний и запретов стремится к власти над другим человеком. Однако перспектива, которую я хочу предложить, не носит характер доктрины; напротив, она считается с существованием вещей и задумывается над тем, с какими человеческими возможностями и свойствами лучше всего согласуется «подстройка» между природой и самостью. Она видит существование деталей за целостностями и образами реальности, которые встречаются у каждого серьезного художника, ученого и философа.
И не так уж странно рассматривать патологию из этой перспективы. Поэтому, если истина в своей естественности и полноте выглядит красивой, то «истины» невроза односторонни, догматичны и глубоко незавершенны. Так хронически депрессивный человек чувствует себя уродливым (отвратительным), и он прав, депрессия уродлива (отвратительна). Человек с депрессией крадет у себя возможность знать и чувствовать свою грусть, свою боль и свою злость так, как будто все это он оставил на потом (4). Так как в состоянии депрессии чувства блокированы остатками непережитого опыта, невозможна их интеграция. Они отравляют сами себя, борются друг с другом и не могут свободно выходить в жизнь. Как при всех неврозах выливается это все в усталость без того, чтобы сдвинуться с места. Нет выхода ни к катарсису (очищению через страдание), ни к эпифании (к тому, чтобы стать видимым для божественного).
При этом нельзя сказать, что здоровье приходит с ангельской стороны личности, а болезнь – с демонической. Как раз наоборот: оба проистекают из одного творческого импульса, врожденного стремления человеческого организма определять самого себя и самостоятельно формировать свои отношения с миром.
Часто маленькие дети воспринимаются как совершенно беспомощные и зависимые. Конечно, они зависимы, но совсем не так безвольны, как может показаться. Так начинают они с очень малыми силами и еще меньшей элегантностью идти за своими потребностями и заявлять о них. Кому это кажется чрезмерной проекцией точки зрения взрослого или простой полярностью проекции беспомощности, тот может посмотреть подробные исследования Барри Бразелтона. Там можно найти много примеров искусного поведения здоровых новорожденных. К примеру, они показали, что трехдневный ребенок влияет на свои отношения с миром и проявляет первые признаки индивидуального стиля поведения. Каждый ребенок развивает свою особенную форму любопытства и занятости, согласия и отвержения.
Новорожденный открывает определенные стратегии того, как ему обходиться с обращенными к нему требованиями. Когда внимание взрослого неприятно тревожит младенца, он просто освобождается от него, засыпая или крича (то же делает взрослый чуть более усложненным образом). Это не просто пассивные реакции. Более того, это последовательность «да» и «нет», с помощью которой маленькое существо устанавливает границу между собой и миром, как вступление к идентичности. Это начала определения себя, из которых произрастают установки индивидуального контакта. Конечно, любимое животное тоже может преданно смотреть на хозяина, но в этом никогда нет той формы поиска отдачи и получения, которая определяет отношения, и где в то же время присутствуют элементы выражения себя.
Многие теории развития подчеркивали, что восприятие опасности в семейном окружении имеет большое влияние на развитие характера. Из перспективы гештальттерапии действие опасности выглядит так: врожденные творческие силы отвлекаются от устремленности на контакт и обращаются на построение механизмов защиты. Или, точнее сказать, когда существует реальная опасность, механизмы защиты становятся подходящей формой контакта, которую может найти ребенок в этих обстоятельствах для удовлетворения своих потребностей. Когда родители, к примеру, на плач или крик ребенка типично реагируют игнорированием или злостью, ребенок учится свои слезы и крик подавлять, чтобы получать дальше родительское внимание, в котором он нуждается. Потому что если дальше продолжать кричать и злиться, существует опасность потерять родителей, перенести тяжелые лишения и в худшем случае умереть. Построение механизмов защиты может быть очень изощренным, но если они устанавливаются навсегда – они препятствуют развитию, связывают личность и сковывают ее возможности, при помощи которых при других обстоятельствах мог бы быть установлен контакт.
Невротические симптомы являются примерами того, что экономист Торстен Веблен называет «выученной беспомощностью». Веблен ссылается на культурную окостенелость, которая возникает, когда человек определенные способы и образцы поведения слишком крепко заучивает. При этом он становится слеп и глух к другим возможностям, не может на новое реагировать по-новому, он его просто не воспринимает. Когда в XVIII веке британские «красные юбки» (названные по цвету своей униформы британские солдаты)(5) рядами и колоннами маршировали по дикой Новой Англии, чтобы подавить сопротивление колоний, они были с легкостью побеждены метателями из пращи, стрелявшими из-за прикрытия деревьев и холмов. Эти вымуштрованные на европейских плацах солдаты не знали, что делать с летящими со всех сторон ядрами и не могли им противостоять.
Невротические симптомы подобны этой отлаженной британской военной машине. Они представляют знакомое, опробованное на полях сражений нашего детства, но по ходу дела успевшее превратиться в музейный экспонат. И в то время как революционное искусство создания клише проигрывает бой, нескромные потребности выбрасываются за борт, чтобы как-то поддержать уверенность в себе; на консервативном полюсе творческого спектра поселяются симптомы. Симптомы основываются на установленных, зрелых техниках выстаивания в сложных ситуациях, чтобы страх можно было удерживать под контролем. Первоначальные кризисы давно позади, но их тени продолжают действовать, рождают опасение и поддерживают старую защитную реакцию в постоянной готовности. Симптомы полны повторений и скучны, как плохое искусство, которое никого не интересует.
Так возникает замкнутый круг невроза, форма заколдованности, жизнь в тоскливой и в то же время напряженной оцепенелости. Монотонность – особая примета невроза, она идет рука об руку с потерей таланта к импровизации. Для терапевтов, однако, важно иметь в виду, что симптомы, так же как искусство, проистекают из общего человеческого свойства: с помощью преобразования реальности что-то представлять. Чтобы воплотить свой невроз, художнику требуется столько же страсти и дисциплины, юмора и оригинальности, сколько для написания поэмы или картины.
Мысль о том, что невротик как художник создает свой невроз – больше чем простая метафора. Отто Ранк называл невротика «покалеченным художником». Он имел в виду, что художник и невротик обуреваемы одним стремлением к бессмертию, потребностью перешагнуть границы привычного существования. Так они, кроме того, пытаются избежать страха изоляции. Разница между невротиком и художником та же, что и вообще между здоровьем и болезнью. Художник принимает ограниченность своего существования и воплощает свой страх в символического посредника как во внешнего представителя своего ощущения себя. Это остается в силе, пока он творит; конечно, в другие моменты жизни он может вести себя как абсолютный невротик. Таким образом художник может творчески работать, завершать начатое и переходить к новым творческим испытаниям с риском новых сомнений и неуверенности. В противоположность ему невротик заранее занят тем, что манипулирует собственной личностью, чтобы удержать под контролем свою неуверенность и сделать свою жизнь предсказуемой. Как только он становится игрушкой в собственных руках, он уже не может прекратить раскручивать себя вокруг собственной оси. К тому же невротик постоянно самокритичен, предъявляет к себе абсолютно невыполнимые перфекционистские требования и превращается в существо, изуродованное чувством вины и неудовлетворенностью.
Каждая психотерапия имеет свое представление о человеке. Психоанализ склонен к трагическому взгляду. Он представляет человека мячиком в игре между Эросом и Смертью, который с одной стороны, нуждается в цивилизации, с другой стороны, становится жертвой ее ограничений. «Я» пытается определить свой курс в бурном море влечений, но у него едва получается вообще удержаться на борту. Спасение в процессе терапии видится в том, чтобы разглядеть неизбежные трудности и научиться жить с вытекающими ограничениями.
И гештальттерапия обращается к тому, чтобы научиться принимать ограничения и половинчатость жизни, но на этом пути она выбирает тон комедии, именно в классическом смысле (как комедии Шекспира или «Божественная комедия» Данте). Жизненный путь вымощен ошибками, недопониманием, упрямством и гордостью. Когда же все это выходит на свет Божий, возникают решения, выходы и интеграция. В гештальттерапии есть эта надежда, так как она верит, что человек в значительной степени все-таки сам «кузнец своего счастья». Трагедия видит характер как судьбу, комедия – как продукт желаний.
Конечно, необходимы обе перспективы. Помощь в установлении равновесия между комической и трагической сторонами жизни – одна из функций иронии. В искусстве, особенно в литературе, ирония – чрезвычайно действенное средство синтеза разнообразного опыта. Воспринимая с иронической точки зрения, можно разглядеть многослойную реальность; так к каждому значению, которое человек приписывает событию, ирония добавляет еще одно, следующее значение, часто противоположное. Она связывает эти различные значения в целостность. Спасительное действие иронии состоит в том, что она раскрывает возможности выбора.
Поэтому ирония для психотерапии — чрезвычайно плодотворный инструмент. Если человек хоть раз смотрел на вещи в свете иронии, он уже не может так легко воспринимать неудачу как определение судьбы.
Лучше я проиллюстрирую то, что хочу сказать, терапевтическим случаем моего клиента-драматурга. На первых сессиях он рассказал мне историю своего кризиса, который побудил его обратиться ко мне. Он и его жена находились на грани развода. Их вечера уходили на горькие раздоры. Я слушаю его, вижу его, наблюдая, однако, чтобы за фабулой того, о чем он говорит, уловить его присутствие (или не пропустить его присутствие). Несмотря на то, что он мускулистый, спортивный мужчина, он сгибается под тяжестью собственной депрессии. Несомненно, отчасти его тяжесть проистекает из семейного кризиса. Но видно, что есть что-то еще, приводящее его в это состояние. Тусклый голос, обвисшие плечи, взгляд жертвы, самоуничижительный способ предъявления – следы прошлого опыта переживания грусти и тревоги.
Он говорит, что ссоры с женой приводят его в состояние полного бессилия из-за вины и разочарования; он несколько дней потом не может работать.В подробном описании своей войны с женой, ударов и контрударов, он дает мне понять, что боится стать таким, как его отец. Отца он представляет жестким, замкнутым, равнодушным к семье человеком, за исключением тех случаев, когда тот высказывал какие-то обвинения. Внешне его отец – успешный предприниматель, но однажды он пришел к выводу, что прожил жизнь зря. За этим последовал такой тяжелый депрессивный срыв, что он многократно попадал в больницу. И теперь драматург боится повторить судьбу отца: его семья распадается, все теперь лежит на нем, он теряет силу писать, его жизнь тонет в бессмысленности.
Сожаление о себе, чувство вины, разочарование и ощущение деградации – большие темы, которые выносит мой клиент. Так как это материал для трагедии или по крайней мере для мелодрамы, я спрашиваю его о его пьесах. К моему удивлению оказывается, что он пишет сатиры. Так как я слышу оттенок гордости в том, как он мне об этом говорит, я спрашиваю, играл ли он когда-нибудь в своей собственной пьесе. Он не делал этого никогда. Я предлагаю ему представить историю его первых семейных сражений еще раз, на этот раз я буду публикой, а он так все представит, как если бы это было его самой циничной сатирой. Кроме того, он должен сыграть обе главные роли, сначала одну, затем – другую. Сначала он сопротивлялся такой дурацкой идее, но я настаивал. И тогда, через пару минут ролевой неуверенности, он вошел в игру и получил удовольствие. Он превратился в очень изобретательного человека, выложил целый репертуар старых жестов, и тогда стало очевидным, как предсказуема аргументация с обеих сторон. Он знал абсолютно точно, каким замечанием вывести жену из себя; дальше всё шло по плану. Он знал, как она попробует укусить его за руку, когда он попытается ее схватить, когда оба будут обрушивать громовые ультиматумы на головы друг друга. И дальше все стало казаться ему некоторым преувеличением. И пришла грусть от этого представления. На возникшей теперь дистанции он сильнее почувствовал хрупкость каждого из них. Он беспокоился теперь не только о самом себе, но и о ней. По крайней мере на миг его депрессия превратилась в нечто благородное и полезное для обоих.
В целом, по мере того как мой драматург превращался в комедианта, он высвобождался из бесконечных кругов тоски. Он не мог больше не замечать, как невелико иногда расстояние между трагическим и абсурдным. Депрессия – это один из тех случаев, где абсурд может помочь вернуть определенную подвижность. Когда, к примеру, люди, слишком зацикленные на бедах собственного детства, учатся во всем происходящем видеть нечто смешное – решающий шаг к взрослению сделан.
В своих заметках о политике Франции XIX века Маркс писал, что все великие эпохи мировой истории повторяются дважды: первый раз как трагедия, второй раз – как фарс. Конечно, и во второй раз исполнители главных ролей воспринимают себя очень серьезно. Мы можем всед за Фрейдом сказать, что на малых сценах личных жизненных историй происходит нечто подобное. Так, Фрейд показал в своих концепциях переноса и вынужденного повторения, что история ребенка инсценируется взрослым заново. Там, где первоначально была трагедия и ребенок трясся от страха, позже является фарс, так как многие страхи взрослых – как борьба с призраками и привидениями – это проекция прежнего исполнителя и старых декораций, трагикомедия в мире духов. Снова главные исполнители воспринимают свою роль слишком серьезно и в конце концов теряются в ней. Одна из задач психотерапии как раз в том и состоит, чтобы раскрывать бессмысленность этой неуместной пугливости.
Упомянутый пациент был случайно сам близок к искусству. В искусстве он был способен с помощью юмора преобразовывать свой опыт; но в своей семье и в повседневной жизни он обрек себя на душевную нищету, как его отец. То, что я дал ему, был просто легкий пинок, чтобы он свою творческую способность перенес из области искусства в жизнь. Такай способ перевода доступен не только художникам, напротив, он возможен для каждого. В гештальттерапии можно было бы сказать, что это необходимый шаг к дальнейшему росту.
Конечно, гештальттерапия не является ни первой психологической теорией, ни первой клинической практикой, обращающейся к вопросам искусства. Однако я верю, заглядывая немного вперед, что она может быть первой, которая имеет дело и с эстетическими, и с психологическими элементами искусства.
Большинство психологических толкований рассматривают искусство как нечто находящееся на грани между сумасшествием и вдохновением, иногда используя его как разного рода тесты Роршаха, а иногда возводя на пьедестал высших человеческих достижений. У самого Фрейда можно проследить эту двойственность: он колеблется от романтического преображения до рациональной науки. Фрейд повторял, что художник, в особенности писатель, черпает многое из своих прозрений в природе бессознательных процессов. В других случаях он связывает проявления бессознательного в искусстве не столько со взглядами, сколько с регрессивными травмами или завуалированными табуированными фантазиями, вытесненными под давлением общества. Как человек с развитым вкусом, Фрейд понимал облагораживающую ценность произведений мастеров. С другой стороны, он опубликовал своего «Моисея Микеланджело» анонимно, и даже это было для него непросто, потому что он считал себя дилетантом; кроме того, он считал неприличным для ученого формулировать такое количество идей в связи с одной единственной скульптурой.
Источник искусства лежит, по Фрейду, в сублимации инстинктивных конфликтов, конфликтов между запрещенными удовольствиями и требованиями общественной реальности. В этом объяснении есть нечто завораживающее, хотя, когда стоишь перед великим произведением искусства, звучит оно более чем упрощенно. Склонность Фрейда все в искусстве сводить к патологии объясняется не только его личными взглядами; гораздо больше (по мнению Ричарда Волхайма (6)) это происходило потому, что Фрейд избегал вопроса о форме и сосредоточивался исключительно на содержании. Это напоминает его подход к толкованию сновидений, где он также ищет символику, за которой скрыты влечения и конфликты. Многие современные критики литературы и искусства восприняли этот фрейдовский подход. Поэтому так распространены интригующие сплетни о художниках. Вместе с тем возникали новые плодотворные взгляды, далёкие, впрочем, от самих произведений. Во фрейдовской традиции многие психологи-теоретики рассматривали искусство как особенного пациента из XIX века – красивое и полное загадок существо, одаренное и истеричное, которое прекрасно выглядит и тем самым мешает теоретизировать на свой счёт.
В дальнейшем позиции поменялись на противоположные: теперь некоторые клиницисты и консультанты грабили искусство, чтобы извлечь из него терапевтические техники. Результат они назвали «арттерапией». Теперь ударение падало на образ действий вместо толкования содержаний. Арттерапевты выступили с впечатляющими экспериментами, но, так же как и психоаналитики, они не слишком увлекались вопросами связи формы и содержания, этого прекрасного и властного союза посредника (медиума) и опыта. Одна из ведущих арттерапевтов Дженни Райн, которая также занималась и гештальттерапией, обесценивает самую сущность искусства и гештальттерапии, когда пишет: «Красота – это побочный продукт; когда мы работаем над открытием себя, оценки вроде «хорошо» и «плохо» остаются как неуместные за порогом. Важным остается только вопрос: «Что ты можешь узнать о себе?»» (7). В большинстве случаев для арттерапии искусство – это только гарнир к полезному блюду, самоутверждение в приятном проведении свободного времени и гимнастика на досуге. Такое дополнение хорошо подходит к распространенным занятиям «самосовершенствованием», литературой «помоги себе сам», руководствами типа «Мастерс и Джонсон», «Вэлнес» и т.д. Однако, когда эстетическое измерение человеческой активности остается за пределами внимания, так как оно не имеет значения, это противоречит самому духу гештальттерапии.
По другим современным представлениям, одной из задач искусства, как и терапии, является контакт со своими чувствами. Чувства воспринимаются как основания опыта, так, как будто они — самоцель. Искусство при этом используется как порнография, чтобы подогреть ощущения, а терапевт превращается в погонщика, подталкивающего клиента ко все новым вспучиваниям эмоциональных волн.
Можно легко увидеть, как наша культура в своих образцах через бесконечные внутренние самоиспытания пуританских корней выходит к этим целям. Особенно в ранние времена, когда она восстает против себя, отворачиваясь от представления о грехе и поворачиваясь к удовольствию как ценности. Так слушаем мы музыку, чтобы разыгравшиеся при этом чувства потом рассмотреть под лупой, в инкаунтер-группах мы бьем по подушкам, чтобы овладеть своим гневом, как будто он – наша собственность. Люди радуются своим открытиям как прелюдии (вступлению), хотя находятся тут же (что в терминах Фрейда соответствует перверсии), и не вступают в реальный контакт с тем, что не в них, а вокруг них.
Хотя существует реальная возможность встречи с другим человеком или произведением искусства, к которой побуждают находки и импульсы, тем более, что они поддерживают в этом случае. Чувства помогают получить душевную пищу в контакте с чем-нибудь или кем-нибудь, кого мы еще не знаем. Без такого контакта рост невозможен. Другими словами, чувства обеспечивают нам особого рода связь с миром: они учат нас нам самим, в смысле изучения нашего внутреннего ландшафта, того, что и где там есть (или чего там недостает, в случае страдания, например). Они говорят нам о том, что нам нужно, или что мы хотим со всем этим делать, что-то взять, выбросить, разрушить или оставить себе. И именно это центральное свойство нашей эмоциональной жизни выпадает из поля зрения, когда чувства превращаются в самоцель.
Тем самым чувства способствуют формированию образа мира в каждый конкретный момент. Например, чувство голода способствует созданию образа мира, в котором есть источники пищи или их не хватает. Этот образ мира может существовать для большинства из нас только короткое время; как только мы его удовлетворяем, оно уходит или переходит в какое-то другое чувство. Но когда есть хронический голод, он окрашивает ориентацию в мире в целом в один определенный цвет. В определенные отрезки средневековья, когда большие части Европы были на грани голодной смерти, пищевые шутки пользовались таким же успехом и были так же распространены, как сексуальные шутки у нас. И сегодня нам понятно, какое большое влияние оказывает наше длящееся внимание к сексуальным чувствам на образ мира нашей культуры, от рекламы косметики, дизайна автомобилей до теорий психоанализа. Когда личность постоянно находится во власти одной эмоции, это показатель болезни самой личности или ее окружения.
В таких случаях психотерапия должна меньше заниматься интенсивностью эмоций (как делают некоторые современные райхианцы), а больше их качеством, их подвижностью и их связью с реальностью. Это служит не только углублению опыта, но тому, чтобы сделать наше знание о собственном опыте более ясным и точным. Один замечательный преподаватель театрального дела говорил мне, что он не выносит, когда актер вводит себя в искусственный экстаз, чтобы таким способом выразить эмоции, по его мнению, соответствующие представляемому характеру. Поэтому он дает своим ученикам задание придумать противоположность какому-нибудь характеру или описать какую-нибудь личность таким количеством разных способов, каким только возможно. По-настоящему подходящая эмоция проявляется в этом случае сама, считает он. Она может быть выражена как составная часть финального контакта и далее разворачивается естественным образом.
Сравните следующие утверждения:
«…преобразование сопротивления, напряжения и возбуждения, которые сами по себе могут привести только к отвлечению и уходу от сути, в движение к объемному и наполненному результату» (8).
Можно ли найти лучшее определение для психотерапии?
«Конфликт между многими непереносимыми и непреодолимыми переживаниями только тогда становится очевиден, когда способ его понимания и трансформации уже есть в распоряжении» (9).
Это выглядит точным описанием того, что происходит при создании произведения искусства.
Первое высказывание – определение эстетики Джона Дэвиса. Второе – описание терапевтического процесса Лаурой Перлз, которая сравнивает его с «созданием произведения искусства (высшей формой интегрированного и интегрирующего человеческого опыта)»(10). Сходства формулировок очевидны. Обе делают ударение на органической связи только что возникающего содержания, которое стремится к рассмотрению по частям (разложению), к анализу, с новой формой, которая заключает это содержание в нечто лучше организованное, завершенное и удовлетворяющее.
В психотерапии разложение и анализ проявляются в форме образования симптомов и привязки к прошлому. Люди приходят в терапию как потерпевшие крушение художники, которые расточают свои таланты попусту и направляют свои страсти в ложные русла. После победы над собственным «Я», которое теперь находится под неусыпным контролем их страха, они создают работы, которые постоянно повторяют сами себя, раздробленны и неубедительны. В описанной выше терапевтической работе с драматургом его депрессивный характер, так же как его драмы, – творческие создания. Во многих частях его жизни творческим импульсом правит страх, и только одной области, искусству, удается противостоять страху.
Таким образом, творец не терапевт, а клиент, как бы неудовлетворительны не были его вещи. Симптомы и их потомки в терапии, которые обычно называют сопротивлениями, это, несмотря ни на что, страстные попытки жить, и они заслуживают уважения. Процитированная выше трансформация через синтез может освобождать человека от симптома и от прошлого, не отбрасывая ни того ни другого, что могло бы привести к новому подавлению и замещению старого симптома новым. Синтез, напротив, — путь очищения источников жизни, которые перекрыты привязкой к прошлому и к симптому. Тогда они могут как знания и завершенности войти в сегодняшнюю жизнь. К сожалению, психотерапевты ведут себя часто как хурурги, надевая резиновые перчатки и ампутируя больной орган или связку. Но невроз не может быть ампутирован без ущерба для личности. Психотерапевт меньше похож на врача или художника, как ясно выразила Лаура Перз, он скорее критик, работающий над тем, чтобы человек слышал профессиональное мнение о своих произведениях (отклик) и получал пространство для самостоятельной игры образов (11).
1. «Aus dem Schatten hervortreten“, Laura Perls im Gespräch mit Edward Rosenfeld, in: „Meine Wildnis ist die Seele des Anderen. Der Weg zu Gestalttherapie“, Laura Perls im Gespräch mit Daniel Rosenblatt u.a., hrsg. von Anke und Erhard Doubrawa (Wuppertal: Peter Hammer Verlag, 2005), S. 121ff.
2. F.Perls, R.Hefferline, and P.Goodman, Gestalt Therapy: Excitement and Growth in the Human Personality (New York: Julian Press, 1951); dt. Gestalttherapie, München 1980: dtv.
3. Rudolf Arnheim, Entropy and Art: An Essay on Disorder and Order (Berkeley: Univ. Of California Press, 1971), S.18-
4. Эта мысль идет от моего коллеги Ричарда Борофского.
5. Я благодарю за пример «красных юбок» критика искусства Харольда Розенберга, который использует его как сравнение некоторых эпох живописи, задыхающихся в узких условиях. (The Tradition of the New (New York: Grove Press, 1961), S. 13-15).
6. Richard Wollheim, “Neurosis and the Artist”, Times Literary Supplement, March 1, 1964, S.203-4.
7. Janie Rhyne, “The Gestalt Art Experience” in Gestalt Therapy Now, herausgeben von Joen Fagan und Irma Lee Shepherd (Palo Alto: Science and Behavior Books, 1970), S. 275.
8. John Dewey, Kunst als Erfahrung (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1995).
9. Laura Perls, „Two Instances of Gestalt Therapy“ in Recognitions in Gestalt Therapy, herausgeben von Paul David Pursglove (New York: Funk and Wagnalls, 1968), S.45; dt. in: dies., Leben an der Grenze (Köln 1989:EHP), S.61.
10. Там же.
11. Laura Perls, „The Psychoanalyst and the Critic“, in: Complex (Sommer 1950), S.44; dt. in: siehe Anm.9.
Впервые опубликовано в «The Gestalt Journal» в 1980 году.
(Перевод Ирины Захарян)
Гештальттерапия широко пользуется определениями, обычно относящимися к искусству. Она делает это на гораздо более глубоком основании, чем простое привлечение актуальных сравнений и метафор из области искусства, иллюстрирующих психологические принципы. Более того, «сам по себе гештальт – это эстетический концепт», как сказала Лаура Перлз в интервью «Выступая из тени» (разговор с Эдвардом Розенфельдом 1978 года)(1). Она и Пол Гудмен – первооткрываетели того, что входит в гештальттерапию вместе с занятиями искусством. Можно найти эти размышления в записях Лауры Перлз, которые, к сожалению, разрозненны и немногочисленны. Она, однако, постоянно и последовательно вносила их в свою преподавательскую работу. Если же мы ищем последовательное письменное изложение этих идей, нам нужно читать Гудмена. В написанной им части книги, выпущенной вместе с Фрицем Перлзом и Ральфом Хефферлином (2), Гудмен рассматривает гештальттерапию в контексте эстетических ценностей и психологических оснований; эта книга и сегодня остается важнейшим вкладом в теорию гештальттерапии, который у нас есть.
Почему искусство сыграло такую центральную роль в развитии гештальттерапии? Во-первых, она развивалась клиницистами и мыслителями, в разной степени, но все-таки занимавшимися искусством. Так, Гудмен внес не только важный вклад в теорию нового вида психотерапии, он писал стихи, романы, пьесы, так же как социальную и литературную критику. Лаура Перлз в юности еще в Германии училась музыке и современному танцу, откуда идет ее большой практический интерес к движениям и ритмам тела в терапевтической работе с клиентами. Фредерик Перлз в юности учился театральному делу у Макса Райнхардта.
Перлз ориетировался в терапии не только на искусство. Однако его ранний интерес к театру определенно повлиял на его терапевтический стиль и метод преподавания. Отсюда идет его работа с «горячим стулом» и его интерес к представлению невроза «на сцене внутренней жизни». Так же Лаура Перлз и Поль Гудмен, которые некоторое время тесно сотрудничали и оказывали влияние друг на друга, считали искусство идеальным примером развития и разворачивания человеческой активности. Этот идеал стал путеводной нитью, мерой здоровья и болезни для практической психотерапии.
Кроме того, есть особые основания для того, чтобы искусство представляло лучшую модель для развития гештальттерапии. Принципы, пришедшие в гештальттерапию из экспериментальной гештальт-психологии, дают импульс к рассмотрению опыта с эстетической точки зрения. Исследования процессов восприятия и мышления гештальт-психологов, Келера, Кофки, Вертхаймера показали, что человек склонен организовывать свой опыт в целостности, которые — благодаря своей форме, структуре и единообразию частей – узнаваемы. Гештальттерапия развила этот тезис и указала на то, что активность (деятельность) тогда является здоровой, когда она протекает в творческой автономии. Отсюда вытекает рассуждение о том, что люди могут лучше всего развивать свои природные возможности, когда им дается свободное пространство для самостоятельного устройства жизни при минимальном внешнем воздействии. Это один из источников гештальттерапевтического радикализма, принимающего анархическую позицию и противостоящего так называемым «либеральным» идеологиям, которые предполагают манипуляции индивида экспертами, детей родителями, клиента бихевиоральными техниками или авторитетом врача.
Этот анархический радикализм происходит отчасти от ценностей искусства. (…)
Психотерапия и искусство часто сравнивались, но простое сравнение мало что дает. Что толку говорить, что и то, и другое – творческие активности, или «выражать себя терапевтично», или «терапевт меньше ученый, чем художник».
Однако искусство и терапия действительно имеют внутреннюю общность, проистекающую из глубокого источника человеческой природы: потребности человека оформлять и преобразовывать свои отношения с миром. Оба используют формальные подходы и способности для направленного воздействия. Оба получают опыт в определенных рамках или через посредника, так что оказываются вырванными из потока повседневности. Оба для этого «нового» выговаривают, вытанцовывают, ставят не сцене, конденсируют, короче – ре-организуют жизнь. С какой целью? В искусстве художественный продукт – самостоятельная цель. В терапии таким художественным продуктом становится сам человек и его жизнь.
Еще одна общая цель: поднять нечто новое из жизненных оснований, пролить новый свет на старых знакомых. В самом деле, большие произведения искусства кажутся скрывающими неисчерпаемый источник информации. Человек может снова и снова погружаться в произведение искусства и каждый раз выходить обновленным. Об этом говорит Эзра Паунд: «Поэзия всегда нова, и новой остается». Как она этого добивается, часто остается тайной.
Однако психолог и философ искусства Рудольф Арнхайм предлагает частичное объяснение этой загадке. Он говорит, что «слово «информация» буквально обозначает «придание формы», а форма нуждается в структуре» (3). Поэтому вопрос о новой информации в искусстве и психотерапии выглядит только на первый взгляд таким отличающимся от принципиального вопроса о форме. Оба несут новую информацию через перестройку уже знакомого. Оба создают новую форму, которая прошлое соединяет с настоящим, старые правила и привычки с новыми возможностями (с этой точки зрения принцип поэтического творчества Вордсворта – «чувство, которое заново спокойно обдумано» — близко к фрейдовскому пониманию свободных ассоциаций). Таким образом они дают повод к открытиям и делают более вероятным, что забытое, незамеченное или подавленное снова выйдет на свет.
Можно рассматривать мечты, фантазии и все подобное под этим углом зрения. Они по сути создания, но сами по себе еще не произведения искусства и не терапевтические открытия. Мы – создатели наших снов, но для искусства и терапии решающим является процесс пересоздания их заново и дальнейшей переработки. Хотя иногда в программах и практике терапии и искусства эта разница стирается. Так, в начале XX века некоторые сюрреалисты, писатели и художники под влиянием романтического восприятия открытий Фрейда считали, что через свободное ассоциирование раскрывается бессознательное, и искусство бьет неостановимым потоком. На рубеже веков французский писатель Лотреамон провозгласил: «Красота – это возможность, что швейная машинка и зонтик неожиданно встретятся на столе паталогоанатома». Это в лучшем случае гротескное, но не чересчур точное определение многими сюрреалистами принималось как теория искусства.
Итак, сюрреалистическая программа ошибочно принимала материал снов за завершенное искусство (хотя, конечно, большая сюрреалистическая поэзия и живопись перешагивали границы собственных программ и обращались к интенсивному преобразованию форм). Это напоминает некоторые тенденции в психотерапии, которые выражение чувств или путешествие в мир мыслей, так называемое «направленное фантазирование», воспринимают как терапию. Хорошие терапевты, напротив, как и хорошие литераторы, рассматривают сны, воспоминания и чувства как нечто незавершенное. Когда клиент приносит психоаналитику свой сон, терапевт интерпретирует его символическое значение и соответствующие мысли пациента; тем самым он завершает сон. Гештальттерапевт со своей стороны может подвигнуть клиента перенести сон как новый опыт на сцену, чтобы свои отношения в прошлом связать с живыми моментами настоящего. Разница сравнима с разницей между семинаром по истории литературы и мастерской художественного письма.
Как протекает повседневная человеческая жизнь? Она редко включает в себя произведение искусства или терапевтическую сессию. Психотерапия находится с жизнью в таких же отношениях, как искусство: оба являются специализированными видами деятельности со структурными и качественными отличиями от повседневной жизни. Так же как их ценность отвечает одному общему источнику, глубоко укорененной в человеке силе создавать формы и так переформировывать опыт, чтобы возникали новые целостности. Эта способность так глубоко закреплена в человеческом сознании и деятельности, что можно ее рассматривать как общий источник знаний, роста и изменения.
Поэтому таким выигрышным для психологии и психотерапии может быть понимание искусства. Гештальттерапия выражает это термином «контакт», термином не очень точным и в последнее время профессионально заезженным, означающим способность человека встречаться с окружающим его миром, проникать в него и выигрывать для себя что-то новое. Контакт не означает механического приспособления к миру, т.к. человек – дающее форму и выстраивающее связи существо.
Гештальттерапия не знает истин в смысле учения о том, как с пациентом «правильно» обращаться и общаться. Она следует убеждению, что когда человек именно так себя ведет и говорит, как правильно именно для него, тогда он развивает в своей активности именно те качества, которые мы ожидаем от искусства: изящество и экономичность, необходимость и подвижность. Другими словами, контакт отвечает определению «истина есть красота».
Отсюда следует, что хорошая жизнь (точнее сказать «здоровая» жизнь, т.к. сегодня в нашей культуре моральное измерение замещается терапевтическим) хорошо оформлена и выглядит красиво. При этом ее невозможно представить безмятежной; это было бы слишком далеко от реальности, чтобы нас надолго заинтересовать. Произведение искусства, которое нас трогает и привлекает, заключает в себе серьезно воспринимаемые жизненные элементы борьбы и примирения, выдержанных испытаний, болезненных препятствий, трудностей и страданий, точно так же как красоты и радости. Это слишком многопланово, чтобы свести все к райскому саду. В Средние века и в эпоху Ренессанса некоторые теологи говорили о «felix culpa», счастливых грехах, которые выводят нас из наивного спокойствия сада и вносят плодотворные испытания в нашу жизнь.
Я хочу подчеркнуть, что этот взгляд на человеческое существование не является простой игрой ума. Более того, в этом представлении есть нечто глубоко моральное, относящееся, на мой взгляд, к самой сути гештальттерапии. Слишком многие так называемые гуманистические психотерапевты, как и многие гештальттерапевты, стараются в благородном рвении очиститься от последствий давящего пуританства, выбросить за борт все решения о том, что хорошо и что плохо. Я признаю, что человек должен бороться с морализаторством, которое с помощью предписаний и запретов стремится к власти над другим человеком. Однако перспектива, которую я хочу предложить, не носит характер доктрины; напротив, она считается с существованием вещей и задумывается над тем, с какими человеческими возможностями и свойствами лучше всего согласуется «подстройка» между природой и самостью. Она видит существование деталей за целостностями и образами реальности, которые встречаются у каждого серьезного художника, ученого и философа.
И не так уж странно рассматривать патологию из этой перспективы. Поэтому, если истина в своей естественности и полноте выглядит красивой, то «истины» невроза односторонни, догматичны и глубоко незавершенны. Так хронически депрессивный человек чувствует себя уродливым (отвратительным), и он прав, депрессия уродлива (отвратительна). Человек с депрессией крадет у себя возможность знать и чувствовать свою грусть, свою боль и свою злость так, как будто все это он оставил на потом (4). Так как в состоянии депрессии чувства блокированы остатками непережитого опыта, невозможна их интеграция. Они отравляют сами себя, борются друг с другом и не могут свободно выходить в жизнь. Как при всех неврозах выливается это все в усталость без того, чтобы сдвинуться с места. Нет выхода ни к катарсису (очищению через страдание), ни к эпифании (к тому, чтобы стать видимым для божественного).
При этом нельзя сказать, что здоровье приходит с ангельской стороны личности, а болезнь – с демонической. Как раз наоборот: оба проистекают из одного творческого импульса, врожденного стремления человеческого организма определять самого себя и самостоятельно формировать свои отношения с миром.
Часто маленькие дети воспринимаются как совершенно беспомощные и зависимые. Конечно, они зависимы, но совсем не так безвольны, как может показаться. Так начинают они с очень малыми силами и еще меньшей элегантностью идти за своими потребностями и заявлять о них. Кому это кажется чрезмерной проекцией точки зрения взрослого или простой полярностью проекции беспомощности, тот может посмотреть подробные исследования Барри Бразелтона. Там можно найти много примеров искусного поведения здоровых новорожденных. К примеру, они показали, что трехдневный ребенок влияет на свои отношения с миром и проявляет первые признаки индивидуального стиля поведения. Каждый ребенок развивает свою особенную форму любопытства и занятости, согласия и отвержения.
Новорожденный открывает определенные стратегии того, как ему обходиться с обращенными к нему требованиями. Когда внимание взрослого неприятно тревожит младенца, он просто освобождается от него, засыпая или крича (то же делает взрослый чуть более усложненным образом). Это не просто пассивные реакции. Более того, это последовательность «да» и «нет», с помощью которой маленькое существо устанавливает границу между собой и миром, как вступление к идентичности. Это начала определения себя, из которых произрастают установки индивидуального контакта. Конечно, любимое животное тоже может преданно смотреть на хозяина, но в этом никогда нет той формы поиска отдачи и получения, которая определяет отношения, и где в то же время присутствуют элементы выражения себя.
Многие теории развития подчеркивали, что восприятие опасности в семейном окружении имеет большое влияние на развитие характера. Из перспективы гештальттерапии действие опасности выглядит так: врожденные творческие силы отвлекаются от устремленности на контакт и обращаются на построение механизмов защиты. Или, точнее сказать, когда существует реальная опасность, механизмы защиты становятся подходящей формой контакта, которую может найти ребенок в этих обстоятельствах для удовлетворения своих потребностей. Когда родители, к примеру, на плач или крик ребенка типично реагируют игнорированием или злостью, ребенок учится свои слезы и крик подавлять, чтобы получать дальше родительское внимание, в котором он нуждается. Потому что если дальше продолжать кричать и злиться, существует опасность потерять родителей, перенести тяжелые лишения и в худшем случае умереть. Построение механизмов защиты может быть очень изощренным, но если они устанавливаются навсегда – они препятствуют развитию, связывают личность и сковывают ее возможности, при помощи которых при других обстоятельствах мог бы быть установлен контакт.
Невротические симптомы являются примерами того, что экономист Торстен Веблен называет «выученной беспомощностью». Веблен ссылается на культурную окостенелость, которая возникает, когда человек определенные способы и образцы поведения слишком крепко заучивает. При этом он становится слеп и глух к другим возможностям, не может на новое реагировать по-новому, он его просто не воспринимает. Когда в XVIII веке британские «красные юбки» (названные по цвету своей униформы британские солдаты)(5) рядами и колоннами маршировали по дикой Новой Англии, чтобы подавить сопротивление колоний, они были с легкостью побеждены метателями из пращи, стрелявшими из-за прикрытия деревьев и холмов. Эти вымуштрованные на европейских плацах солдаты не знали, что делать с летящими со всех сторон ядрами и не могли им противостоять.
Невротические симптомы подобны этой отлаженной британской военной машине. Они представляют знакомое, опробованное на полях сражений нашего детства, но по ходу дела успевшее превратиться в музейный экспонат. И в то время как революционное искусство создания клише проигрывает бой, нескромные потребности выбрасываются за борт, чтобы как-то поддержать уверенность в себе; на консервативном полюсе творческого спектра поселяются симптомы. Симптомы основываются на установленных, зрелых техниках выстаивания в сложных ситуациях, чтобы страх можно было удерживать под контролем. Первоначальные кризисы давно позади, но их тени продолжают действовать, рождают опасение и поддерживают старую защитную реакцию в постоянной готовности. Симптомы полны повторений и скучны, как плохое искусство, которое никого не интересует.
Так возникает замкнутый круг невроза, форма заколдованности, жизнь в тоскливой и в то же время напряженной оцепенелости. Монотонность – особая примета невроза, она идет рука об руку с потерей таланта к импровизации. Для терапевтов, однако, важно иметь в виду, что симптомы, так же как искусство, проистекают из общего человеческого свойства: с помощью преобразования реальности что-то представлять. Чтобы воплотить свой невроз, художнику требуется столько же страсти и дисциплины, юмора и оригинальности, сколько для написания поэмы или картины.
Мысль о том, что невротик как художник создает свой невроз – больше чем простая метафора. Отто Ранк называл невротика «покалеченным художником». Он имел в виду, что художник и невротик обуреваемы одним стремлением к бессмертию, потребностью перешагнуть границы привычного существования. Так они, кроме того, пытаются избежать страха изоляции. Разница между невротиком и художником та же, что и вообще между здоровьем и болезнью. Художник принимает ограниченность своего существования и воплощает свой страх в символического посредника как во внешнего представителя своего ощущения себя. Это остается в силе, пока он творит; конечно, в другие моменты жизни он может вести себя как абсолютный невротик. Таким образом художник может творчески работать, завершать начатое и переходить к новым творческим испытаниям с риском новых сомнений и неуверенности. В противоположность ему невротик заранее занят тем, что манипулирует собственной личностью, чтобы удержать под контролем свою неуверенность и сделать свою жизнь предсказуемой. Как только он становится игрушкой в собственных руках, он уже не может прекратить раскручивать себя вокруг собственной оси. К тому же невротик постоянно самокритичен, предъявляет к себе абсолютно невыполнимые перфекционистские требования и превращается в существо, изуродованное чувством вины и неудовлетворенностью.
Каждая психотерапия имеет свое представление о человеке. Психоанализ склонен к трагическому взгляду. Он представляет человека мячиком в игре между Эросом и Смертью, который с одной стороны, нуждается в цивилизации, с другой стороны, становится жертвой ее ограничений. «Я» пытается определить свой курс в бурном море влечений, но у него едва получается вообще удержаться на борту. Спасение в процессе терапии видится в том, чтобы разглядеть неизбежные трудности и научиться жить с вытекающими ограничениями.
И гештальттерапия обращается к тому, чтобы научиться принимать ограничения и половинчатость жизни, но на этом пути она выбирает тон комедии, именно в классическом смысле (как комедии Шекспира или «Божественная комедия» Данте). Жизненный путь вымощен ошибками, недопониманием, упрямством и гордостью. Когда же все это выходит на свет Божий, возникают решения, выходы и интеграция. В гештальттерапии есть эта надежда, так как она верит, что человек в значительной степени все-таки сам «кузнец своего счастья». Трагедия видит характер как судьбу, комедия – как продукт желаний.
Конечно, необходимы обе перспективы. Помощь в установлении равновесия между комической и трагической сторонами жизни – одна из функций иронии. В искусстве, особенно в литературе, ирония – чрезвычайно действенное средство синтеза разнообразного опыта. Воспринимая с иронической точки зрения, можно разглядеть многослойную реальность; так к каждому значению, которое человек приписывает событию, ирония добавляет еще одно, следующее значение, часто противоположное. Она связывает эти различные значения в целостность. Спасительное действие иронии состоит в том, что она раскрывает возможности выбора.
Поэтому ирония для психотерапии — чрезвычайно плодотворный инструмент. Если человек хоть раз смотрел на вещи в свете иронии, он уже не может так легко воспринимать неудачу как определение судьбы.
Лучше я проиллюстрирую то, что хочу сказать, терапевтическим случаем моего клиента-драматурга. На первых сессиях он рассказал мне историю своего кризиса, который побудил его обратиться ко мне. Он и его жена находились на грани развода. Их вечера уходили на горькие раздоры. Я слушаю его, вижу его, наблюдая, однако, чтобы за фабулой того, о чем он говорит, уловить его присутствие (или не пропустить его присутствие). Несмотря на то, что он мускулистый, спортивный мужчина, он сгибается под тяжестью собственной депрессии. Несомненно, отчасти его тяжесть проистекает из семейного кризиса. Но видно, что есть что-то еще, приводящее его в это состояние. Тусклый голос, обвисшие плечи, взгляд жертвы, самоуничижительный способ предъявления – следы прошлого опыта переживания грусти и тревоги.
Он говорит, что ссоры с женой приводят его в состояние полного бессилия из-за вины и разочарования; он несколько дней потом не может работать.В подробном описании своей войны с женой, ударов и контрударов, он дает мне понять, что боится стать таким, как его отец. Отца он представляет жестким, замкнутым, равнодушным к семье человеком, за исключением тех случаев, когда тот высказывал какие-то обвинения. Внешне его отец – успешный предприниматель, но однажды он пришел к выводу, что прожил жизнь зря. За этим последовал такой тяжелый депрессивный срыв, что он многократно попадал в больницу. И теперь драматург боится повторить судьбу отца: его семья распадается, все теперь лежит на нем, он теряет силу писать, его жизнь тонет в бессмысленности.
Сожаление о себе, чувство вины, разочарование и ощущение деградации – большие темы, которые выносит мой клиент. Так как это материал для трагедии или по крайней мере для мелодрамы, я спрашиваю его о его пьесах. К моему удивлению оказывается, что он пишет сатиры. Так как я слышу оттенок гордости в том, как он мне об этом говорит, я спрашиваю, играл ли он когда-нибудь в своей собственной пьесе. Он не делал этого никогда. Я предлагаю ему представить историю его первых семейных сражений еще раз, на этот раз я буду публикой, а он так все представит, как если бы это было его самой циничной сатирой. Кроме того, он должен сыграть обе главные роли, сначала одну, затем – другую. Сначала он сопротивлялся такой дурацкой идее, но я настаивал. И тогда, через пару минут ролевой неуверенности, он вошел в игру и получил удовольствие. Он превратился в очень изобретательного человека, выложил целый репертуар старых жестов, и тогда стало очевидным, как предсказуема аргументация с обеих сторон. Он знал абсолютно точно, каким замечанием вывести жену из себя; дальше всё шло по плану. Он знал, как она попробует укусить его за руку, когда он попытается ее схватить, когда оба будут обрушивать громовые ультиматумы на головы друг друга. И дальше все стало казаться ему некоторым преувеличением. И пришла грусть от этого представления. На возникшей теперь дистанции он сильнее почувствовал хрупкость каждого из них. Он беспокоился теперь не только о самом себе, но и о ней. По крайней мере на миг его депрессия превратилась в нечто благородное и полезное для обоих.
В целом, по мере того как мой драматург превращался в комедианта, он высвобождался из бесконечных кругов тоски. Он не мог больше не замечать, как невелико иногда расстояние между трагическим и абсурдным. Депрессия – это один из тех случаев, где абсурд может помочь вернуть определенную подвижность. Когда, к примеру, люди, слишком зацикленные на бедах собственного детства, учатся во всем происходящем видеть нечто смешное – решающий шаг к взрослению сделан.
В своих заметках о политике Франции XIX века Маркс писал, что все великие эпохи мировой истории повторяются дважды: первый раз как трагедия, второй раз – как фарс. Конечно, и во второй раз исполнители главных ролей воспринимают себя очень серьезно. Мы можем всед за Фрейдом сказать, что на малых сценах личных жизненных историй происходит нечто подобное. Так, Фрейд показал в своих концепциях переноса и вынужденного повторения, что история ребенка инсценируется взрослым заново. Там, где первоначально была трагедия и ребенок трясся от страха, позже является фарс, так как многие страхи взрослых – как борьба с призраками и привидениями – это проекция прежнего исполнителя и старых декораций, трагикомедия в мире духов. Снова главные исполнители воспринимают свою роль слишком серьезно и в конце концов теряются в ней. Одна из задач психотерапии как раз в том и состоит, чтобы раскрывать бессмысленность этой неуместной пугливости.
Упомянутый пациент был случайно сам близок к искусству. В искусстве он был способен с помощью юмора преобразовывать свой опыт; но в своей семье и в повседневной жизни он обрек себя на душевную нищету, как его отец. То, что я дал ему, был просто легкий пинок, чтобы он свою творческую способность перенес из области искусства в жизнь. Такай способ перевода доступен не только художникам, напротив, он возможен для каждого. В гештальттерапии можно было бы сказать, что это необходимый шаг к дальнейшему росту.
Конечно, гештальттерапия не является ни первой психологической теорией, ни первой клинической практикой, обращающейся к вопросам искусства. Однако я верю, заглядывая немного вперед, что она может быть первой, которая имеет дело и с эстетическими, и с психологическими элементами искусства.
Большинство психологических толкований рассматривают искусство как нечто находящееся на грани между сумасшествием и вдохновением, иногда используя его как разного рода тесты Роршаха, а иногда возводя на пьедестал высших человеческих достижений. У самого Фрейда можно проследить эту двойственность: он колеблется от романтического преображения до рациональной науки. Фрейд повторял, что художник, в особенности писатель, черпает многое из своих прозрений в природе бессознательных процессов. В других случаях он связывает проявления бессознательного в искусстве не столько со взглядами, сколько с регрессивными травмами или завуалированными табуированными фантазиями, вытесненными под давлением общества. Как человек с развитым вкусом, Фрейд понимал облагораживающую ценность произведений мастеров. С другой стороны, он опубликовал своего «Моисея Микеланджело» анонимно, и даже это было для него непросто, потому что он считал себя дилетантом; кроме того, он считал неприличным для ученого формулировать такое количество идей в связи с одной единственной скульптурой.
Источник искусства лежит, по Фрейду, в сублимации инстинктивных конфликтов, конфликтов между запрещенными удовольствиями и требованиями общественной реальности. В этом объяснении есть нечто завораживающее, хотя, когда стоишь перед великим произведением искусства, звучит оно более чем упрощенно. Склонность Фрейда все в искусстве сводить к патологии объясняется не только его личными взглядами; гораздо больше (по мнению Ричарда Волхайма (6)) это происходило потому, что Фрейд избегал вопроса о форме и сосредоточивался исключительно на содержании. Это напоминает его подход к толкованию сновидений, где он также ищет символику, за которой скрыты влечения и конфликты. Многие современные критики литературы и искусства восприняли этот фрейдовский подход. Поэтому так распространены интригующие сплетни о художниках. Вместе с тем возникали новые плодотворные взгляды, далёкие, впрочем, от самих произведений. Во фрейдовской традиции многие психологи-теоретики рассматривали искусство как особенного пациента из XIX века – красивое и полное загадок существо, одаренное и истеричное, которое прекрасно выглядит и тем самым мешает теоретизировать на свой счёт.
В дальнейшем позиции поменялись на противоположные: теперь некоторые клиницисты и консультанты грабили искусство, чтобы извлечь из него терапевтические техники. Результат они назвали «арттерапией». Теперь ударение падало на образ действий вместо толкования содержаний. Арттерапевты выступили с впечатляющими экспериментами, но, так же как и психоаналитики, они не слишком увлекались вопросами связи формы и содержания, этого прекрасного и властного союза посредника (медиума) и опыта. Одна из ведущих арттерапевтов Дженни Райн, которая также занималась и гештальттерапией, обесценивает самую сущность искусства и гештальттерапии, когда пишет: «Красота – это побочный продукт; когда мы работаем над открытием себя, оценки вроде «хорошо» и «плохо» остаются как неуместные за порогом. Важным остается только вопрос: «Что ты можешь узнать о себе?»» (7). В большинстве случаев для арттерапии искусство – это только гарнир к полезному блюду, самоутверждение в приятном проведении свободного времени и гимнастика на досуге. Такое дополнение хорошо подходит к распространенным занятиям «самосовершенствованием», литературой «помоги себе сам», руководствами типа «Мастерс и Джонсон», «Вэлнес» и т.д. Однако, когда эстетическое измерение человеческой активности остается за пределами внимания, так как оно не имеет значения, это противоречит самому духу гештальттерапии.
По другим современным представлениям, одной из задач искусства, как и терапии, является контакт со своими чувствами. Чувства воспринимаются как основания опыта, так, как будто они — самоцель. Искусство при этом используется как порнография, чтобы подогреть ощущения, а терапевт превращается в погонщика, подталкивающего клиента ко все новым вспучиваниям эмоциональных волн.
Можно легко увидеть, как наша культура в своих образцах через бесконечные внутренние самоиспытания пуританских корней выходит к этим целям. Особенно в ранние времена, когда она восстает против себя, отворачиваясь от представления о грехе и поворачиваясь к удовольствию как ценности. Так слушаем мы музыку, чтобы разыгравшиеся при этом чувства потом рассмотреть под лупой, в инкаунтер-группах мы бьем по подушкам, чтобы овладеть своим гневом, как будто он – наша собственность. Люди радуются своим открытиям как прелюдии (вступлению), хотя находятся тут же (что в терминах Фрейда соответствует перверсии), и не вступают в реальный контакт с тем, что не в них, а вокруг них.
Хотя существует реальная возможность встречи с другим человеком или произведением искусства, к которой побуждают находки и импульсы, тем более, что они поддерживают в этом случае. Чувства помогают получить душевную пищу в контакте с чем-нибудь или кем-нибудь, кого мы еще не знаем. Без такого контакта рост невозможен. Другими словами, чувства обеспечивают нам особого рода связь с миром: они учат нас нам самим, в смысле изучения нашего внутреннего ландшафта, того, что и где там есть (или чего там недостает, в случае страдания, например). Они говорят нам о том, что нам нужно, или что мы хотим со всем этим делать, что-то взять, выбросить, разрушить или оставить себе. И именно это центральное свойство нашей эмоциональной жизни выпадает из поля зрения, когда чувства превращаются в самоцель.
Тем самым чувства способствуют формированию образа мира в каждый конкретный момент. Например, чувство голода способствует созданию образа мира, в котором есть источники пищи или их не хватает. Этот образ мира может существовать для большинства из нас только короткое время; как только мы его удовлетворяем, оно уходит или переходит в какое-то другое чувство. Но когда есть хронический голод, он окрашивает ориентацию в мире в целом в один определенный цвет. В определенные отрезки средневековья, когда большие части Европы были на грани голодной смерти, пищевые шутки пользовались таким же успехом и были так же распространены, как сексуальные шутки у нас. И сегодня нам понятно, какое большое влияние оказывает наше длящееся внимание к сексуальным чувствам на образ мира нашей культуры, от рекламы косметики, дизайна автомобилей до теорий психоанализа. Когда личность постоянно находится во власти одной эмоции, это показатель болезни самой личности или ее окружения.
В таких случаях психотерапия должна меньше заниматься интенсивностью эмоций (как делают некоторые современные райхианцы), а больше их качеством, их подвижностью и их связью с реальностью. Это служит не только углублению опыта, но тому, чтобы сделать наше знание о собственном опыте более ясным и точным. Один замечательный преподаватель театрального дела говорил мне, что он не выносит, когда актер вводит себя в искусственный экстаз, чтобы таким способом выразить эмоции, по его мнению, соответствующие представляемому характеру. Поэтому он дает своим ученикам задание придумать противоположность какому-нибудь характеру или описать какую-нибудь личность таким количеством разных способов, каким только возможно. По-настоящему подходящая эмоция проявляется в этом случае сама, считает он. Она может быть выражена как составная часть финального контакта и далее разворачивается естественным образом.
Сравните следующие утверждения:
«…преобразование сопротивления, напряжения и возбуждения, которые сами по себе могут привести только к отвлечению и уходу от сути, в движение к объемному и наполненному результату» (8).
Можно ли найти лучшее определение для психотерапии?
«Конфликт между многими непереносимыми и непреодолимыми переживаниями только тогда становится очевиден, когда способ его понимания и трансформации уже есть в распоряжении» (9).
Это выглядит точным описанием того, что происходит при создании произведения искусства.
Первое высказывание – определение эстетики Джона Дэвиса. Второе – описание терапевтического процесса Лаурой Перлз, которая сравнивает его с «созданием произведения искусства (высшей формой интегрированного и интегрирующего человеческого опыта)»(10). Сходства формулировок очевидны. Обе делают ударение на органической связи только что возникающего содержания, которое стремится к рассмотрению по частям (разложению), к анализу, с новой формой, которая заключает это содержание в нечто лучше организованное, завершенное и удовлетворяющее.
В психотерапии разложение и анализ проявляются в форме образования симптомов и привязки к прошлому. Люди приходят в терапию как потерпевшие крушение художники, которые расточают свои таланты попусту и направляют свои страсти в ложные русла. После победы над собственным «Я», которое теперь находится под неусыпным контролем их страха, они создают работы, которые постоянно повторяют сами себя, раздробленны и неубедительны. В описанной выше терапевтической работе с драматургом его депрессивный характер, так же как его драмы, – творческие создания. Во многих частях его жизни творческим импульсом правит страх, и только одной области, искусству, удается противостоять страху.
Таким образом, творец не терапевт, а клиент, как бы неудовлетворительны не были его вещи. Симптомы и их потомки в терапии, которые обычно называют сопротивлениями, это, несмотря ни на что, страстные попытки жить, и они заслуживают уважения. Процитированная выше трансформация через синтез может освобождать человека от симптома и от прошлого, не отбрасывая ни того ни другого, что могло бы привести к новому подавлению и замещению старого симптома новым. Синтез, напротив, — путь очищения источников жизни, которые перекрыты привязкой к прошлому и к симптому. Тогда они могут как знания и завершенности войти в сегодняшнюю жизнь. К сожалению, психотерапевты ведут себя часто как хурурги, надевая резиновые перчатки и ампутируя больной орган или связку. Но невроз не может быть ампутирован без ущерба для личности. Психотерапевт меньше похож на врача или художника, как ясно выразила Лаура Перз, он скорее критик, работающий над тем, чтобы человек слышал профессиональное мнение о своих произведениях (отклик) и получал пространство для самостоятельной игры образов (11).
1. «Aus dem Schatten hervortreten“, Laura Perls im Gespräch mit Edward Rosenfeld, in: „Meine Wildnis ist die Seele des Anderen. Der Weg zu Gestalttherapie“, Laura Perls im Gespräch mit Daniel Rosenblatt u.a., hrsg. von Anke und Erhard Doubrawa (Wuppertal: Peter Hammer Verlag, 2005), S. 121ff.
2. F.Perls, R.Hefferline, and P.Goodman, Gestalt Therapy: Excitement and Growth in the Human Personality (New York: Julian Press, 1951); dt. Gestalttherapie, München 1980: dtv.
3. Rudolf Arnheim, Entropy and Art: An Essay on Disorder and Order (Berkeley: Univ. Of California Press, 1971), S.18-
4. Эта мысль идет от моего коллеги Ричарда Борофского.
5. Я благодарю за пример «красных юбок» критика искусства Харольда Розенберга, который использует его как сравнение некоторых эпох живописи, задыхающихся в узких условиях. (The Tradition of the New (New York: Grove Press, 1961), S. 13-15).
6. Richard Wollheim, “Neurosis and the Artist”, Times Literary Supplement, March 1, 1964, S.203-4.
7. Janie Rhyne, “The Gestalt Art Experience” in Gestalt Therapy Now, herausgeben von Joen Fagan und Irma Lee Shepherd (Palo Alto: Science and Behavior Books, 1970), S. 275.
8. John Dewey, Kunst als Erfahrung (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1995).
9. Laura Perls, „Two Instances of Gestalt Therapy“ in Recognitions in Gestalt Therapy, herausgeben von Paul David Pursglove (New York: Funk and Wagnalls, 1968), S.45; dt. in: dies., Leben an der Grenze (Köln 1989:EHP), S.61.
10. Там же.
11. Laura Perls, „The Psychoanalyst and the Critic“, in: Complex (Sommer 1950), S.44; dt. in: siehe Anm.9.
Майкл Винсент Миллер