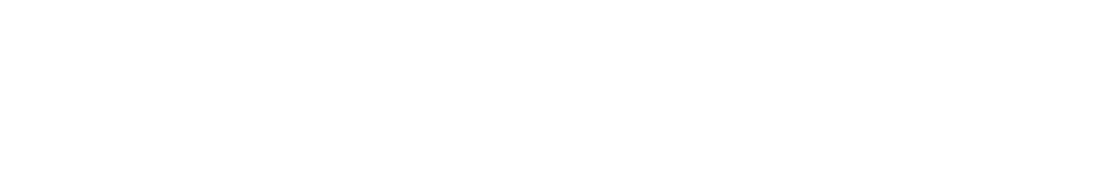В жанре клиента
Опубликовано в Гештальт Гештальтов-2006 №2 1
Мне хотелось бы сегодня продолжить разговор о форме в психотерапии. Гештальттерапия всегда была чрезвычайно чувствительна к форме, что и звучит в самом названии. Как только мы понимаем, что недостаточно разобраться с содержанием клиентской проблемы, с тем «что» происходит, тут же выплывает пресловутый вопрос «как». «Как клиент рассказывает о своей проблеме?», «как он двигается?», «как сидит?», «как ему удается так запутать свою жизнь?»
Первое впечатление часто остается моментом самого пристального внимания «не к содержанию, но к форме» проявлений клиента, к внешним, пока еще не наполненным терапевтическими смыслами, проявлениям жизни: «как вошел», «как садится», «как поворачивает голову» и т.д. Однако, говоря словами Ф.Перлза, мы в гештальттерапии «работаем с тем, что лежит на поверхности. Трудность в том, что пациент (часто и терапевт) принимает то, что лежит на поверхности, за само собой разумеющееся. (…) Именно в очевидном мы находим его незавершенную личность; и только схватывая, останавливая очевидное, расплавляя затвердевшее, проводя различие между болтовней и реальной заинтересованностью, между стершимся от употребления и творческим, может человек вернуть себе живость и гибкость отношений фигуры и фона» (Перлз,1998).
Это ставит нас еще и перед методической проблемой возвращения к первичной впечатлительности, особого внимания не только к содержанию, но к форме высказывания, самопредъявления и вообще жизни клиента.
Клиент приносит с собой к терапевту некую историю. Историю своей проблемы, историю своей болезни, историю своей жизни, наконец. И в терапевтической ситуации эта история начинает каким-то образом разворачиваться, разыгрываться, перестраиваться. Встреча с терапевтом и сама по себе становится частью этой большой истории. Мы в сессии встречаемся с рассказом о жизни, что уже предполагает некоторую каким-то образом отрефлексированную реальность, т.е. возможность применения эстетических категорий, категорий искусства. Содержательной формой целостного клиентского высказывания является жанр. И одна из основных и простых, надеюсь, идей этого сообщения могла бы звучать так:
«Большие возможности заложены в способности терапевта работать в жанре клиента».
Эта мысль имеет несколько предпосылок и следствий. Ну, во-первых, это предполагает, что клиент «работает» в своем каком-то жанре. Во-вторых, что терапевт может каким-то образом этот жанр распознавать и как-то в нем работать. В-третьих, что вообще существует жанровое разнообразие и жанровое своеобразие терапевтической работы.
Но для начала несколько слов о том, что такое «жанр», для того, чтобы яснее понять, что дает нам это для рассмотрения терапевтического процесса. В философии искусства и поэтике приблизительно такое же количество определений понятия «жанр», как и определений понятия «личность» в психологии. Поэтому, не вдаваясь в подробности, попробуем обратиться только к ядру, самому простому представлению о жанре, в котором большинство школ пересекаются. Прежде всего, когда говорят о жанрах, имеют в виду литературные жанры. От аристотелевской «Поэтики»(Аристотель,1979) идет учение о родах и жанрах в литературе. Соответственно основные роды: эпический, лирический и драматический. И каждый литературный род имеет свои жанры: роман, повесть, рассказ — эпические жанры; элегия, ода, романс, сонет — лирические; трагедия, комедия, драма — жанры драматического рода. Здесь мы встречаемся с двумя основными значениями понятия, находящимися в сложном и противоречивом единстве.
1. Жанр — та или иная разновидность произведений, сложившаяся в истории национальной литературы или ряда литератур и обозначенная каким-то традиционным термином: рассказ-комедия-ода.
2. Понятие жанра подразумевает «идеальный» тип или логически сконструированную модель произведения, которые основаны на сравнении конкретных литературных произведений и рассматриваются в качестве их инвариантов.
Отчасти это соотносится с проблемой «канонических и неканонических» жанров.
Канонические — это жанры, структуры которых восходят — по представлениям создателей произведений — к определенным «вечным» образцам.
Неканонические — строятся без расчета на готовые, унаследованные формы художественного целого.
Однако и в неканоническом случае «жанр (по выражению Бахтина) всегда помнит свое прошлое»(Бахтин,1972).
Соответственно существуют два противоположно направленных процесса: ориентация на канон, стремление к нему приблизиться, и преодоление, разрушение канона, преодоление жанровых границ. В истории искусства, как обычно принято считать, до Нового Времени преобладало каноническое искусство, а дальше идет процесс активной переориентации на индивидуалистические ценности и соответственно процесс отказа от канонов, размывания жанровых границ, создания синтетических и новых жанров. Однако, при всей гибкости перегородок между жанрами, при всей их проницаемости для взаимных проникновений, при всем непостоянстве границ в историческом процессе взаимодействия жанров, непреложной остается качественная определенность жанра — «жанровая доминанта»(Тынянов, 1977), т.е. нечто общее, характерно типическое, свойственное каждому жанру.
Итак, вернемся к терапевтическому процессу. С самого начала клиент выступает в некотором жанре. Часто эти жанры соотносятся с драматическими: комедия, трагедия, драма. Например, он может предъявлять свою историю как трагедию, усиливая особенно патетические места, или наоборот, может сбрасывать напряжение, даже в драматичных моментах, начиная подсмеиваться и иронизировать над всеми и над собой в том числе. Жанр этого самопредъявления выстраивается всей жизненной и душевной историей клиента. Тем, как рассказывали о себе близкие ему люди, тем, как он привык воспринимать себя, в конце концов, даже его внешними данными.
(Когда люди поступают в театральное училище, часто видна первичная соотнесенность с тем или иным жанром: «герой-любовник», «злодей», «характерный актер». И чем сильнее эта соотнесенность, тем сложнее ее потом преодолевать, некоторые так всю жизнь и играют одну и ту же роль (и не только на сцене)). Природа в сильной степени предопределяет жанр клиента, родители тоже подвизаются на этом поприще, но и сам клиент в выборе жанра играет не последнюю роль.
Далеко не всегда клиенты даже на первых порах ограничиваются драматическими жанрами. Многие более склонны к эпическим. Вам еще не попадался клиент, который рассказывает, и рассказывает, и рассказывает много сессий, и терапевт думает, в какой момент его остановить и останавливать ли вообще? Или клиенты-новеллисты. Жанровой сущностью новеллы является финальная перемена точки зрения на исходную ситуацию, противоречащая логике сюжетного развития и связанная с новым, неожиданным событием.
И чем свободнее ориентируется терапевт в разнообразных жанровых системах, тем больше вероятность «попасть», угадать клиентский жанр и вступить в него. Я не говорю здесь о специальных литературоведческих знаниях, а скорее о широте ассоциативного спектра и свободе ориентации в той символической реальности, которую предлагает клиент. Здесь, вероятно, важно не ошибиться. Если клиент разворачивает перед вами трагедию рока, а вы уже с самого начала знаете, что этот архаический жанр сегодня, во всяком случае в чистом виде, не существует, и в ваших репликах начинает сразу звучать сатирическая комедия, скорее всего, клиент будет разочарован, уйдет непонятым. На первом этапе работы важно как можно более точно определить именно тот жанр, с которым приходит к вам клиент, и попробовать работать в нем. Здесь встает вопрос о каноне, который совсем не такой простой, как может показаться на первый взгляд.
По канонам какого жанра строит рассказ о своей жизни клиент? В каком жанре он вообще живет? («Каждый пишет, как он дышит»). Жанр ведь, действительно, содержательная форма. И если клиент разворачивает перед вами трагедию, и именно она захватывает его как жанр, он потенциально способен многое сделать, чтобы не дать трагедии перейти в комедию. Жанровая структура может многое подсказать, потому что она сама по себе уже несет информацию о вариантах своего развития и о значении истории для ее автора. Задача здесь, повторяю, как можно более точно следить в динамике за развитием того, к а к живет клиент в сессии. Сделать жанровую посылку прозрачной, видной для самого клиента. Грубо говоря, чтобы в работе обоим, и терапевту, и клиенту, было ясно, какую трагедию или мелодраму клиент проживает «там и тогда» и «здесь и теперь». С одной стороны, клиент еще раз понимает, что его страдание не единственное в своем роде, с другой стороны, уже это может способствовать более четкому выделению фигуры. Жанр, как мы уже говорили, подразумевает «идеальный» тип возможной истории, то, как «такие истории» развиваются, какие «завязки» и «развязки» они могут иметь. Например, клиентка рассказывает о тупике в семейной жизни. После 15 счастливых лет, рождения двоих детей, муж влюбился в другую, но из семьи тоже не уходит. В самой по себе этой посылке ясного намека на жанр нет. Эта история может быть разыграна как мелодрама со слезами, обвинениями и примирением на чем-то, как трагедия, если женщина разбудит Медею в себе, решит, что в этом мужчине и жизни с ним сконцентрирована вся ее судьба, перенесет всю силу любви в силу мести и начнет «жить из мести», и как комедия, если женщина вдруг осознает, что почему-либо эта ситуация открывает для нее какие-то новые возможности в отношениях с мужем (как в сюжете оперетты «Летучая мышь») или в отношениях со всем остальным миром. То есть, сама по себе фабула клиентского рассказа еще не является определяющим носителем жанра. В этом качестве исследователи поэтики иногда выделяют:
- субъектную отнесенность (в лирических жанрах, например, значительно большую роль играют субъективные переживания лирического героя);
- пространственно-временная организация;
- интонационно — речевая организация;
- ассоциативный фон.
Начнем с конца, то есть с ассоциативного фона. Это в нашем случае прежде всего вопрос о том, кого, какую героиню какого романа или драмы может напоминать нам клиентка («Медея» это или «Летучая мышь»). Основных сюжетов во всей мировой литературе вполне небольшое количество (иногда называют цифру 40), все определяется вариациями. Кроме того, переживания самого терапевта от чтения или видения (в хорошем исполнении) тех самых комедий или трагедий могут создать хорошую основу для понимания душевной жизни клиента. Конечно, остается опасность проецирования «чужого» образа на историю клиентки. Но эта опасность ничуть не больше общей опасности проецирования в терапевтических отношениях или еще большей опасности полного прерывания процесса проецирования у терапевта; как он тогда будет строить и проверять свои гипотезы? Кроме того, художественные образы никогда не несут одного единственного значения, они всегда — формы, которые люди и время наполняют новым содержанием. Поэтому и у клиента всегда остается возможность отвергнуть образ («нет, я не Байрон, я другой…») или найти свою трактовку, свою «Медею». И еще одно, художественный образ имеет определенную логику развития, зерно трагического конца заложено уже в первой встрече Медеи с Ясоном. Эта художественная логика может подсказать терапевту вектор развития некоторой душевной тенденции клиента (грубо говоря, «как развиваются такие истории и чем они кончаются»). В терапевтические задачи не входит «смена» образа или, наоборот, фасилитация его последовательного развития, все это — выбор клиента. Но проявление и поддержка сознавания делает выбор более основательным.
Интонационно-речевая организация. Это весь круг вопросов, связанных с тем «как» говорит о своей проблеме клиент. Понятно, что трагедии свойственна в большей мере сдержанно-суровая интонация с клокотанием внутренних сил, не выходящих так легко на поверхность. Когда-то наше школярское первое определение трагедии и комедии звучало так: «трагедия — это когда герой умирает в конце, комедия — когда все остаются живы». Трагедия может проявляться в жанровой структуре клиентского рассказа, когда есть что-то, за что он, клиент, готов (а иногда, и хотел бы) умереть или, соответственно, убить кого-то. Эти импульсы часто сдерживаются, что и в речи проявляется определенным сдерживанием: уменьшением амплитуды между интонационными подъемами и спадами, глухотой тембра, остановками, «застыванием мимики». Или обратный полюс «трагедийных» проявлений, свойственный уже другому этапу разворачивания эмоции в ту или другую сторону, когда классические герои могли «рвать на себе волосы и выкалывать глаза» или обращать свой гнев на самое ценное и дорогое. В речи это, соответственно, будет проявляться противоположным образом: усилением интонационных перепадов, ускорением, возможным переходом в крик. Но, в любом случае, трагедия связана с разрушением мира и себя как части этого мира. Интонации комедии как минимум более игривы, предполагают более широкий спектр «подходящих жизненных вариантов»; комедия не рушит мир, она над ним смеется и ему радуется. Но ведь и комедия сама по себе — это не просто набор шуток и трюков. Когда вы смотрите комедийные фильмы Чаплина, например, вам может быть все время смешно, но в этой экранной жизни заложено мощное трагедийное зерно. Посреди всех этих бесчисленных сложностей и неурядиц герой удивительным образом выживает, но почти каждая ситуация для него «чревата». Если бы не было этого постоянного риска, не было бы комедии, но если бы герой погиб — комедия перестала бы быть комедией. Кроме того, здесь важно, что точки зрения героя и зрителя принципиально различаются: Чарли в кадре редко смеется, особенно в те моменты, когда смеется зал. Это качество может быть принципиально важным для терапии: терапевт, с одной стороны, должен уметь быть рядом с героем внутри ситуации, и в этом смысле чувствовать ее трагичность, с другой стороны, у него должно быть зарезервировано место в зрительном зале и тогда он сможет увидеть комедийный потенциал происходящего (а может, еще и клиенту достанет билетик в тот же зал). Я с трудом могу вспомнить клиента, который предъявлял бы свою историю как комедию, только если с самого начала есть желание «преуменьшить сложности», «не принимать всерьез», но нелепых, добрых, грустных комедийных персонажей было довольно много, может быть, силы выживаемости Чарли им не всегда хватало.
И еще хочется специально остановиться на ситуации как бы зависания клиента между жанрами. История рассказывается со сдержанно-суровой интонацией, но без какого-либо особого клокотания и с полуулыбкой, задержавшейся на лице. Клиент как будто сам удерживает себя от сознавания своего отношения к истории. Здесь тоже есть разные пласты сложившегося «отказа от отношения». С одной стороны, есть традиционные (интроективные) предпочтения: как (как трагедию или комедию) традиционно воспринимала бы (или воспринимает) эту ситуацию значимая для клиента фигура (папа-мама или…), как предполагается ее преподносить, «раз уж ты пришел к психотерапевту» (к терапевту редко ходят с комедиями). С другой стороны, неизвестно, что со мной произойдет, если я позволю себе чувствовать. Клиенты в этом случае еще иногда говорят вместо «чувствовать» — «распускаться» («мне нельзя распускаться, у меня же еще и дети, что с ними будет»). Кроме того, ясное отношение приближает необходимость выбора, а клиент хоть и в тупике, но ведь «все-таки какая-то стабильность». Такая «жанровая путаница» или «жанровый тупик» — в каком-то смысле — подарок терапевту. Задача здесь — сделать этот тупик прозрачным, явным, чтобы клиент осознал, где находится, и что с тем, в каком жанре он эту историю проживает, не может определиться никто, кроме, естественно, его самого.
Пространственно-временная организация. Сюда можно было бы отнести, во-первых, все телесные проявления клиента в работе, особенности его жестикуляции, то, как клиент «обращается с пространством». Спектр проявлений здесь опять может быть очень широк: от клиентов, вся жизнь которых концентрируется в выражении их глаз, до таких, которые тут же обживают и используют все предметы вокруг себя, чтобы ярче и понятнее представить свою ситуацию. Искусства, как известно, бывают пространственные (живопись, скульптура и т.д.), временные (музыка, литература и т.д.) и пространственно-временные (театр, прежде всего), и есть определенная культурно-историческая и психологическая логика в появлении и исчезновении третьего пространственного измерения. Когда, к примеру, на смену скульптуре античности приходит плоскость иконы средневековья, и экстраверсию в восприятии жизни греками сменяет интроверсия молитвы. Я здесь имею в виду даже не исторический план, а психологический. Клиенты тоже склонны к разной «мерности» в проявлениях своей душевной жизни, кроме того, они вообще могут быть в большей степени «живописны», «скульптурны», «музыкальны» или «театральны». И эти «художественные» характеристики могут коррелировать не только с экстраверсией-интраверсией (как двухмерность-трехмерность), но намечать пути терапии. Я говорю здесь не о «модальностях», используемых в НЛП, поскольку имею в виду иную мировоззренческую основу и не рассматриваю это как «способы воздействия на клиента», а именно как пути совместного творчества в терапии. Кроме того, «слухач» может быть очень «скульптурен», а тот, у кого «ведущей является зрительная модальность» может оказаться оперной дивой. Это опять вопрос о жанре, задаваемом клиентом и воспринимаемом терапевтом.
Есть еще как минимум один аспект вопроса о пространственно-временной организации. Если мы гипотетически пробуем рассматривать личностные направления психотерапии как вид современного искусства, то к каким искусствам она в большей степени может относиться? Я бы высказала предположение, что к пространственно-временным. И предположение это имеет отнюдь не только теоретическое значение уже потому, что предполагает особые отношения со временем и пространством. Если «художественные» характеристики — это то, что идет от клиента, то представление о пространственно-временной организации психотерапии идет от терапевта. Пространство психотерапии — особая тема, достойная отдельного исследования, сейчас я хотела бы сделать только одно «предварительное» замечание. Попытки осмысления «пространства терапии» базируются прежде всего на теории диалога и, соответственно, рассмотрении пространства диалога. Об этом многое сказано прежде всего в работах М.Бубера (Бубер, 1993) и М.Бахтина (Бахтин,1975). Но, как представляется, возникает много недоразумений, если не учитывается одно простое обстоятельство — и М.Бубер, и М.Бахтин строили свои теории диалога на исследовании художественных и духовных феноменов, они не рассматривали бытовые разговоры в качестве диалога. И если мы говорим о диалоге в психотерапии, о пространстве диалога, то, видимо, предполагаем, что в процессе психотерапии как минимум возникают моменты высокой душевной концентрации, близкие по природе к художественным или духовным. И тогда мы действительно говорим об особом пространстве терапии, меняющем свои характеристики не только в соответствии с законами физики, но скорее подчиняясь другим закономерностям — закономерностям концентрированной душевной жизни, которые и есть вотчина искусства. О терапевтическом пространстве сказано, может быть, не так много. Рассматривались закономерности взаимодействия людей на разном расстоянии, особенности функционирования «интимного пространства» личности и т.д. Но как создается особая атмосфера сессии, и как потом эта атмосфера влияет (как самостоятельный «третий» участник) на весь ход процесса, это продолжает оставаться интригующим вопросом. М.Чехов (Чехов, 2002), который считал атмосферу — душой произведения, так писал о ней:
«Тот актер, который сохранил (или вновь приобрел) чувство атмосферы, хорошо знает, какая неразрывная связь устанавливается между ним и зрителем, если они охвачены одной и той же атмосферой. В ней зритель сам начинает играть вместе с актером. Он посылает ему через рампу волны сочувствия, доверия и любви. Зритель не мог бы сделать этого без атмосферы, идущей со сцены. Без нее он оставался бы в сфере рассудка, всегда холодного, всегда отчуждающего, как бы тонка ни была его оценка техники и мастерства игры актера.
Спросите себя, как вы, сидя в зрительном зале, воспримете содержание одной и той же сцены, сыгранной перед вами один раз без атмосферы и другой раз — с атмосферой? В первом случае вы ясно поймете рассудком смысл виденной сцены, но едва ли глубоко проникнете в ее психологическое содержание. Во втором — ваше восприятие будет более глубоким по своему психологическому значению. Вы не только поймете содержание сцены, вы почувствуете его. Такое восприятие может пробудить в вашей душе ряд вопросов, догадок и проблем, ведущих далеко за пределы рассудочной ясности».
Пространство между двумя стульями участников процесса в сессии может оставаться пустым, как нейтральная полоса, разделяющая границы разных государств. И тогда велика, может быть, вероятность того, что клиент уйдет со словами: «Он (терапевт) сказал мне только то, что я и без него знал». Вообще вряд ли мы можем сказать что-то новое клиентам. Более того, слышат они ведь тоже то, что хотят слышать. Эта ситуация меняется, когда пространство сессии наполняется атмосферой, тогда оно превращается в настоящую сцену душевной жизни. Тогда появляется шанс, что клиент почувствует, что его понимают, и терапевтические отношения будут развиваться, проходя через выражение самых разнообразных чувств и мыслей. Терапевтическое понимание, как и понимание вообще, не поддается чисто логическим раскладкам, к пониманию не придешь через объяснение. Это прежде всего то, что связано с особенностями диалога в терапии, со свойствами терапевтического пространства.
С самого начала важно, чтобы возникла атмосфера доверия, и уже сразу нет единых рецептов ее создания. Некоторые терапевты носят с собой большую уверенность в себе, в своем методе и его превосходстве над всеми прочими способами работы с клиентами. Иногда эта уверенность заполняет все пространство сессии, поддерживает клиента в его поисках «того, кто знает, как надо, и кто поможет», и действует как симптоматическое утешительное средство. Такому знающему и уверенному терапевту приятно доверять. Однако иногда при этом теряется атмосфера самого клиентского переживания. И постепенно возникает ощущение, что терапевт увлечен своим методом больше, чем пришедшим к нему человеком, что «он очень квалифицированный, но меня не понимает». Терапевт и клиент остаются в этом случае только в сфере рассудка «всегда холодного, всегда отчуждающего». Конечно, может быть, не лучший вариант, если растерянность и неуверенность терапевта в ответ на проявления чувств клиента усиливает тревогу и тоже мешает возникновению доверия в терапевтическом пространстве. Это скорее вопрос о способности терапевта быть не слишком увлеченным своей собственной атмосферой (или наоборот, только атмосферой клиента), не «принимать клиента в свою систему координат», а принимать его вместе с его системой координат, уметь обнаруживать его в пространстве, воспринимать его атмосферу, предстоять ему, оставаясь собой. Тем более что дальше, на основе возникшего (но не безграничного) доверия пространство и атмосфера сильно меняются, превращаясь то в поле боя, то в тихий омут, то еще во что-то. И здесь технически важна способность к сосредоточенно-рассредоточенному вниманию, чтобы воспринимать мир клиента во всей возможной полноте и ясности. Сосредоточенность на происходящем, на всех вербальных и невербальных проявлениях клиента, своих чувствах и ощущениях, при этом возникающих. Рассредоточенность «тоннельного видения» в пределах того или иного терапевтического направления или уже сложившейся гипотезы. Терапевтом задаются только самые внешние границы пространства-времени: место и время сессий, а дальше сосредоточенная рассредоточенность помогает не задавать, а создавать совместное терапевтическое пространство.
И, наконец, субъектная отнесенность. Это прежде всего то, как определяет и описывает клиент свои проблемы по отношению к себе самому, где вообще находится центр его душевного мира. Либо он сам является тем солнцем, вокруг которого вращается вся остальная система, обращая внимание прежде всего на свои внутренние переживания, видоизменения своего внутреннего мира, тогда мы имеем дело с более «интравертированными» проявлениями лирического героя. Либо конфликт находится в пространстве отношений между людьми, и тогда это ближе к драматическим жанрам. Или конфликт лежит в сфере семейных или национальных ценностей, ритуалов и традиций, и тогда мы приближаемся к эпосу. Позиция терапевта при этом тоже будет разной. Так же как мы по-разному читаем, смотрим и вообще воспринимаем эпические, драматические и лирические жанры.
Здесь снова в связи с разнообразием упомянутых характеристик может возникнуть вопрос: «зачем все это? Зачем понимать и определять все эти жанровые особенности клиента?» И ответ, как всегда, будет и простым и сложным. Во-первых, это сродни вопросу «зачем понимать?» вообще, через который мы выходим к вопросу о целях психотерапии. И если мы только хотим помочь в некоторой конкретной жизненной ситуации (с чем чаще всего и приходят клиенты), путь понимания далеко не самый прямой и легкий. Во-вторых, если говорить о возможностях диагностики в личностных направлениях в терапии, обращающихся не к всеобщему, но именно к частному, индивидуальному и неповторимому в человеке, то такая диагностика должна предполагать не только «ход через форму к внутреннему содержанию» (приснившийся банан может «обозначать» очень разные вещи, а может и просто оказаться бананом; только примитивный символизм в терапии и в психодиагностике может стремиться к однозначному толкованию и непременно к толкованию), а исследование самой формы в ее динамичных взаимоотношениях с содержанием. В-третьих, жанр — как раз такая характеристика, «содержательная форма», которая дает возможность приблизиться к исследованию взаимоотношений формы и содержания в клиентской истории. И, наконец, клиент потому и приходит к нам, что что-то «застыло» в его жизни, ему трудно выскочить из какого-то «замкнутого круга». Расширение жанровых возможностей, преодоление границ жанра является прообразом терапевтического процесса. Техническая реализация этой идеи возможна через прямое обсуждение с клиентом жанра его истории и открытого разыгрывания проблемы в этом жанре. Но и не только такая «прямая» реализация идеи возможна. Даже и без нее размышления о жанре могут не остаться бесплодными. Сервантес начинает писать пародию на рыцарский роман, и получается «Дон Кихот». Соблюдаются каноны рыцарского романа как жанра, происходит выход за пределы канонов, но суть человеческого стремления к благородству со всеми своими взлетами и падениями оказывается шире писательского сатирического запала, и выходит новый рыцарский роман нерыцарского времени, или просто роман, конкретизировать жанр которого уже не так просто: он не рыцарский и не сатирический, он вышел за жанровые границы. Такой выход за жанровые границы предполагает в некотором идеале хорошая терапевтическая работа.
В заключение хочется сказать, что психотерапия сама по себе тяготеет к жанру комедии (хотя это не всегда ясно с самого начала) уже потому, что в «каноническом» варианте по окончании терапии все остаются живы. Мы имеем в виду широкое понимание комедии (свой «Вишневый сад» А.П.Чехов обозначил как комедию), как жанра, в котором жизнь продолжается, несмотря на то, что когда-нибудь неизбежно закончится. А потому давайте не будем терять чувства юмора (в каком месте своего тела вы чаще его ощущаете?), которое несомненно может помочь работать в этом жанре, и вообще является одним из главных профессиональных (и человеческих) качеств психотерапевта.
Мне хотелось бы сегодня продолжить разговор о форме в психотерапии. Гештальттерапия всегда была чрезвычайно чувствительна к форме, что и звучит в самом названии. Как только мы понимаем, что недостаточно разобраться с содержанием клиентской проблемы, с тем «что» происходит, тут же выплывает пресловутый вопрос «как». «Как клиент рассказывает о своей проблеме?», «как он двигается?», «как сидит?», «как ему удается так запутать свою жизнь?»
Первое впечатление часто остается моментом самого пристального внимания «не к содержанию, но к форме» проявлений клиента, к внешним, пока еще не наполненным терапевтическими смыслами, проявлениям жизни: «как вошел», «как садится», «как поворачивает голову» и т.д. Однако, говоря словами Ф.Перлза, мы в гештальттерапии «работаем с тем, что лежит на поверхности. Трудность в том, что пациент (часто и терапевт) принимает то, что лежит на поверхности, за само собой разумеющееся. (…) Именно в очевидном мы находим его незавершенную личность; и только схватывая, останавливая очевидное, расплавляя затвердевшее, проводя различие между болтовней и реальной заинтересованностью, между стершимся от употребления и творческим, может человек вернуть себе живость и гибкость отношений фигуры и фона» (Перлз,1998).
Это ставит нас еще и перед методической проблемой возвращения к первичной впечатлительности, особого внимания не только к содержанию, но к форме высказывания, самопредъявления и вообще жизни клиента.
Клиент приносит с собой к терапевту некую историю. Историю своей проблемы, историю своей болезни, историю своей жизни, наконец. И в терапевтической ситуации эта история начинает каким-то образом разворачиваться, разыгрываться, перестраиваться. Встреча с терапевтом и сама по себе становится частью этой большой истории. Мы в сессии встречаемся с рассказом о жизни, что уже предполагает некоторую каким-то образом отрефлексированную реальность, т.е. возможность применения эстетических категорий, категорий искусства. Содержательной формой целостного клиентского высказывания является жанр. И одна из основных и простых, надеюсь, идей этого сообщения могла бы звучать так:
«Большие возможности заложены в способности терапевта работать в жанре клиента».
Эта мысль имеет несколько предпосылок и следствий. Ну, во-первых, это предполагает, что клиент «работает» в своем каком-то жанре. Во-вторых, что терапевт может каким-то образом этот жанр распознавать и как-то в нем работать. В-третьих, что вообще существует жанровое разнообразие и жанровое своеобразие терапевтической работы.
Но для начала несколько слов о том, что такое «жанр», для того, чтобы яснее понять, что дает нам это для рассмотрения терапевтического процесса. В философии искусства и поэтике приблизительно такое же количество определений понятия «жанр», как и определений понятия «личность» в психологии. Поэтому, не вдаваясь в подробности, попробуем обратиться только к ядру, самому простому представлению о жанре, в котором большинство школ пересекаются. Прежде всего, когда говорят о жанрах, имеют в виду литературные жанры. От аристотелевской «Поэтики»(Аристотель,1979) идет учение о родах и жанрах в литературе. Соответственно основные роды: эпический, лирический и драматический. И каждый литературный род имеет свои жанры: роман, повесть, рассказ — эпические жанры; элегия, ода, романс, сонет — лирические; трагедия, комедия, драма — жанры драматического рода. Здесь мы встречаемся с двумя основными значениями понятия, находящимися в сложном и противоречивом единстве.
1. Жанр — та или иная разновидность произведений, сложившаяся в истории национальной литературы или ряда литератур и обозначенная каким-то традиционным термином: рассказ-комедия-ода.
2. Понятие жанра подразумевает «идеальный» тип или логически сконструированную модель произведения, которые основаны на сравнении конкретных литературных произведений и рассматриваются в качестве их инвариантов.
Отчасти это соотносится с проблемой «канонических и неканонических» жанров.
Канонические — это жанры, структуры которых восходят — по представлениям создателей произведений — к определенным «вечным» образцам.
Неканонические — строятся без расчета на готовые, унаследованные формы художественного целого.
Однако и в неканоническом случае «жанр (по выражению Бахтина) всегда помнит свое прошлое»(Бахтин,1972).
Соответственно существуют два противоположно направленных процесса: ориентация на канон, стремление к нему приблизиться, и преодоление, разрушение канона, преодоление жанровых границ. В истории искусства, как обычно принято считать, до Нового Времени преобладало каноническое искусство, а дальше идет процесс активной переориентации на индивидуалистические ценности и соответственно процесс отказа от канонов, размывания жанровых границ, создания синтетических и новых жанров. Однако, при всей гибкости перегородок между жанрами, при всей их проницаемости для взаимных проникновений, при всем непостоянстве границ в историческом процессе взаимодействия жанров, непреложной остается качественная определенность жанра — «жанровая доминанта»(Тынянов, 1977), т.е. нечто общее, характерно типическое, свойственное каждому жанру.
Итак, вернемся к терапевтическому процессу. С самого начала клиент выступает в некотором жанре. Часто эти жанры соотносятся с драматическими: комедия, трагедия, драма. Например, он может предъявлять свою историю как трагедию, усиливая особенно патетические места, или наоборот, может сбрасывать напряжение, даже в драматичных моментах, начиная подсмеиваться и иронизировать над всеми и над собой в том числе. Жанр этого самопредъявления выстраивается всей жизненной и душевной историей клиента. Тем, как рассказывали о себе близкие ему люди, тем, как он привык воспринимать себя, в конце концов, даже его внешними данными.
(Когда люди поступают в театральное училище, часто видна первичная соотнесенность с тем или иным жанром: «герой-любовник», «злодей», «характерный актер». И чем сильнее эта соотнесенность, тем сложнее ее потом преодолевать, некоторые так всю жизнь и играют одну и ту же роль (и не только на сцене)). Природа в сильной степени предопределяет жанр клиента, родители тоже подвизаются на этом поприще, но и сам клиент в выборе жанра играет не последнюю роль.
Далеко не всегда клиенты даже на первых порах ограничиваются драматическими жанрами. Многие более склонны к эпическим. Вам еще не попадался клиент, который рассказывает, и рассказывает, и рассказывает много сессий, и терапевт думает, в какой момент его остановить и останавливать ли вообще? Или клиенты-новеллисты. Жанровой сущностью новеллы является финальная перемена точки зрения на исходную ситуацию, противоречащая логике сюжетного развития и связанная с новым, неожиданным событием.
И чем свободнее ориентируется терапевт в разнообразных жанровых системах, тем больше вероятность «попасть», угадать клиентский жанр и вступить в него. Я не говорю здесь о специальных литературоведческих знаниях, а скорее о широте ассоциативного спектра и свободе ориентации в той символической реальности, которую предлагает клиент. Здесь, вероятно, важно не ошибиться. Если клиент разворачивает перед вами трагедию рока, а вы уже с самого начала знаете, что этот архаический жанр сегодня, во всяком случае в чистом виде, не существует, и в ваших репликах начинает сразу звучать сатирическая комедия, скорее всего, клиент будет разочарован, уйдет непонятым. На первом этапе работы важно как можно более точно определить именно тот жанр, с которым приходит к вам клиент, и попробовать работать в нем. Здесь встает вопрос о каноне, который совсем не такой простой, как может показаться на первый взгляд.
По канонам какого жанра строит рассказ о своей жизни клиент? В каком жанре он вообще живет? («Каждый пишет, как он дышит»). Жанр ведь, действительно, содержательная форма. И если клиент разворачивает перед вами трагедию, и именно она захватывает его как жанр, он потенциально способен многое сделать, чтобы не дать трагедии перейти в комедию. Жанровая структура может многое подсказать, потому что она сама по себе уже несет информацию о вариантах своего развития и о значении истории для ее автора. Задача здесь, повторяю, как можно более точно следить в динамике за развитием того, к а к живет клиент в сессии. Сделать жанровую посылку прозрачной, видной для самого клиента. Грубо говоря, чтобы в работе обоим, и терапевту, и клиенту, было ясно, какую трагедию или мелодраму клиент проживает «там и тогда» и «здесь и теперь». С одной стороны, клиент еще раз понимает, что его страдание не единственное в своем роде, с другой стороны, уже это может способствовать более четкому выделению фигуры. Жанр, как мы уже говорили, подразумевает «идеальный» тип возможной истории, то, как «такие истории» развиваются, какие «завязки» и «развязки» они могут иметь. Например, клиентка рассказывает о тупике в семейной жизни. После 15 счастливых лет, рождения двоих детей, муж влюбился в другую, но из семьи тоже не уходит. В самой по себе этой посылке ясного намека на жанр нет. Эта история может быть разыграна как мелодрама со слезами, обвинениями и примирением на чем-то, как трагедия, если женщина разбудит Медею в себе, решит, что в этом мужчине и жизни с ним сконцентрирована вся ее судьба, перенесет всю силу любви в силу мести и начнет «жить из мести», и как комедия, если женщина вдруг осознает, что почему-либо эта ситуация открывает для нее какие-то новые возможности в отношениях с мужем (как в сюжете оперетты «Летучая мышь») или в отношениях со всем остальным миром. То есть, сама по себе фабула клиентского рассказа еще не является определяющим носителем жанра. В этом качестве исследователи поэтики иногда выделяют:
- субъектную отнесенность (в лирических жанрах, например, значительно большую роль играют субъективные переживания лирического героя);
- пространственно-временная организация;
- интонационно — речевая организация;
- ассоциативный фон.
Начнем с конца, то есть с ассоциативного фона. Это в нашем случае прежде всего вопрос о том, кого, какую героиню какого романа или драмы может напоминать нам клиентка («Медея» это или «Летучая мышь»). Основных сюжетов во всей мировой литературе вполне небольшое количество (иногда называют цифру 40), все определяется вариациями. Кроме того, переживания самого терапевта от чтения или видения (в хорошем исполнении) тех самых комедий или трагедий могут создать хорошую основу для понимания душевной жизни клиента. Конечно, остается опасность проецирования «чужого» образа на историю клиентки. Но эта опасность ничуть не больше общей опасности проецирования в терапевтических отношениях или еще большей опасности полного прерывания процесса проецирования у терапевта; как он тогда будет строить и проверять свои гипотезы? Кроме того, художественные образы никогда не несут одного единственного значения, они всегда — формы, которые люди и время наполняют новым содержанием. Поэтому и у клиента всегда остается возможность отвергнуть образ («нет, я не Байрон, я другой…») или найти свою трактовку, свою «Медею». И еще одно, художественный образ имеет определенную логику развития, зерно трагического конца заложено уже в первой встрече Медеи с Ясоном. Эта художественная логика может подсказать терапевту вектор развития некоторой душевной тенденции клиента (грубо говоря, «как развиваются такие истории и чем они кончаются»). В терапевтические задачи не входит «смена» образа или, наоборот, фасилитация его последовательного развития, все это — выбор клиента. Но проявление и поддержка сознавания делает выбор более основательным.
Интонационно-речевая организация. Это весь круг вопросов, связанных с тем «как» говорит о своей проблеме клиент. Понятно, что трагедии свойственна в большей мере сдержанно-суровая интонация с клокотанием внутренних сил, не выходящих так легко на поверхность. Когда-то наше школярское первое определение трагедии и комедии звучало так: «трагедия — это когда герой умирает в конце, комедия — когда все остаются живы». Трагедия может проявляться в жанровой структуре клиентского рассказа, когда есть что-то, за что он, клиент, готов (а иногда, и хотел бы) умереть или, соответственно, убить кого-то. Эти импульсы часто сдерживаются, что и в речи проявляется определенным сдерживанием: уменьшением амплитуды между интонационными подъемами и спадами, глухотой тембра, остановками, «застыванием мимики». Или обратный полюс «трагедийных» проявлений, свойственный уже другому этапу разворачивания эмоции в ту или другую сторону, когда классические герои могли «рвать на себе волосы и выкалывать глаза» или обращать свой гнев на самое ценное и дорогое. В речи это, соответственно, будет проявляться противоположным образом: усилением интонационных перепадов, ускорением, возможным переходом в крик. Но, в любом случае, трагедия связана с разрушением мира и себя как части этого мира. Интонации комедии как минимум более игривы, предполагают более широкий спектр «подходящих жизненных вариантов»; комедия не рушит мир, она над ним смеется и ему радуется. Но ведь и комедия сама по себе — это не просто набор шуток и трюков. Когда вы смотрите комедийные фильмы Чаплина, например, вам может быть все время смешно, но в этой экранной жизни заложено мощное трагедийное зерно. Посреди всех этих бесчисленных сложностей и неурядиц герой удивительным образом выживает, но почти каждая ситуация для него «чревата». Если бы не было этого постоянного риска, не было бы комедии, но если бы герой погиб — комедия перестала бы быть комедией. Кроме того, здесь важно, что точки зрения героя и зрителя принципиально различаются: Чарли в кадре редко смеется, особенно в те моменты, когда смеется зал. Это качество может быть принципиально важным для терапии: терапевт, с одной стороны, должен уметь быть рядом с героем внутри ситуации, и в этом смысле чувствовать ее трагичность, с другой стороны, у него должно быть зарезервировано место в зрительном зале и тогда он сможет увидеть комедийный потенциал происходящего (а может, еще и клиенту достанет билетик в тот же зал). Я с трудом могу вспомнить клиента, который предъявлял бы свою историю как комедию, только если с самого начала есть желание «преуменьшить сложности», «не принимать всерьез», но нелепых, добрых, грустных комедийных персонажей было довольно много, может быть, силы выживаемости Чарли им не всегда хватало.
И еще хочется специально остановиться на ситуации как бы зависания клиента между жанрами. История рассказывается со сдержанно-суровой интонацией, но без какого-либо особого клокотания и с полуулыбкой, задержавшейся на лице. Клиент как будто сам удерживает себя от сознавания своего отношения к истории. Здесь тоже есть разные пласты сложившегося «отказа от отношения». С одной стороны, есть традиционные (интроективные) предпочтения: как (как трагедию или комедию) традиционно воспринимала бы (или воспринимает) эту ситуацию значимая для клиента фигура (папа-мама или…), как предполагается ее преподносить, «раз уж ты пришел к психотерапевту» (к терапевту редко ходят с комедиями). С другой стороны, неизвестно, что со мной произойдет, если я позволю себе чувствовать. Клиенты в этом случае еще иногда говорят вместо «чувствовать» — «распускаться» («мне нельзя распускаться, у меня же еще и дети, что с ними будет»). Кроме того, ясное отношение приближает необходимость выбора, а клиент хоть и в тупике, но ведь «все-таки какая-то стабильность». Такая «жанровая путаница» или «жанровый тупик» — в каком-то смысле — подарок терапевту. Задача здесь — сделать этот тупик прозрачным, явным, чтобы клиент осознал, где находится, и что с тем, в каком жанре он эту историю проживает, не может определиться никто, кроме, естественно, его самого.
Пространственно-временная организация. Сюда можно было бы отнести, во-первых, все телесные проявления клиента в работе, особенности его жестикуляции, то, как клиент «обращается с пространством». Спектр проявлений здесь опять может быть очень широк: от клиентов, вся жизнь которых концентрируется в выражении их глаз, до таких, которые тут же обживают и используют все предметы вокруг себя, чтобы ярче и понятнее представить свою ситуацию. Искусства, как известно, бывают пространственные (живопись, скульптура и т.д.), временные (музыка, литература и т.д.) и пространственно-временные (театр, прежде всего), и есть определенная культурно-историческая и психологическая логика в появлении и исчезновении третьего пространственного измерения. Когда, к примеру, на смену скульптуре античности приходит плоскость иконы средневековья, и экстраверсию в восприятии жизни греками сменяет интроверсия молитвы. Я здесь имею в виду даже не исторический план, а психологический. Клиенты тоже склонны к разной «мерности» в проявлениях своей душевной жизни, кроме того, они вообще могут быть в большей степени «живописны», «скульптурны», «музыкальны» или «театральны». И эти «художественные» характеристики могут коррелировать не только с экстраверсией-интраверсией (как двухмерность-трехмерность), но намечать пути терапии. Я говорю здесь не о «модальностях», используемых в НЛП, поскольку имею в виду иную мировоззренческую основу и не рассматриваю это как «способы воздействия на клиента», а именно как пути совместного творчества в терапии. Кроме того, «слухач» может быть очень «скульптурен», а тот, у кого «ведущей является зрительная модальность» может оказаться оперной дивой. Это опять вопрос о жанре, задаваемом клиентом и воспринимаемом терапевтом.
Есть еще как минимум один аспект вопроса о пространственно-временной организации. Если мы гипотетически пробуем рассматривать личностные направления психотерапии как вид современного искусства, то к каким искусствам она в большей степени может относиться? Я бы высказала предположение, что к пространственно-временным. И предположение это имеет отнюдь не только теоретическое значение уже потому, что предполагает особые отношения со временем и пространством. Если «художественные» характеристики — это то, что идет от клиента, то представление о пространственно-временной организации психотерапии идет от терапевта. Пространство психотерапии — особая тема, достойная отдельного исследования, сейчас я хотела бы сделать только одно «предварительное» замечание. Попытки осмысления «пространства терапии» базируются прежде всего на теории диалога и, соответственно, рассмотрении пространства диалога. Об этом многое сказано прежде всего в работах М.Бубера (Бубер, 1993) и М.Бахтина (Бахтин,1975). Но, как представляется, возникает много недоразумений, если не учитывается одно простое обстоятельство — и М.Бубер, и М.Бахтин строили свои теории диалога на исследовании художественных и духовных феноменов, они не рассматривали бытовые разговоры в качестве диалога. И если мы говорим о диалоге в психотерапии, о пространстве диалога, то, видимо, предполагаем, что в процессе психотерапии как минимум возникают моменты высокой душевной концентрации, близкие по природе к художественным или духовным. И тогда мы действительно говорим об особом пространстве терапии, меняющем свои характеристики не только в соответствии с законами физики, но скорее подчиняясь другим закономерностям — закономерностям концентрированной душевной жизни, которые и есть вотчина искусства. О терапевтическом пространстве сказано, может быть, не так много. Рассматривались закономерности взаимодействия людей на разном расстоянии, особенности функционирования «интимного пространства» личности и т.д. Но как создается особая атмосфера сессии, и как потом эта атмосфера влияет (как самостоятельный «третий» участник) на весь ход процесса, это продолжает оставаться интригующим вопросом. М.Чехов (Чехов, 2002), который считал атмосферу — душой произведения, так писал о ней:
«Тот актер, который сохранил (или вновь приобрел) чувство атмосферы, хорошо знает, какая неразрывная связь устанавливается между ним и зрителем, если они охвачены одной и той же атмосферой. В ней зритель сам начинает играть вместе с актером. Он посылает ему через рампу волны сочувствия, доверия и любви. Зритель не мог бы сделать этого без атмосферы, идущей со сцены. Без нее он оставался бы в сфере рассудка, всегда холодного, всегда отчуждающего, как бы тонка ни была его оценка техники и мастерства игры актера.
Спросите себя, как вы, сидя в зрительном зале, воспримете содержание одной и той же сцены, сыгранной перед вами один раз без атмосферы и другой раз — с атмосферой? В первом случае вы ясно поймете рассудком смысл виденной сцены, но едва ли глубоко проникнете в ее психологическое содержание. Во втором — ваше восприятие будет более глубоким по своему психологическому значению. Вы не только поймете содержание сцены, вы почувствуете его. Такое восприятие может пробудить в вашей душе ряд вопросов, догадок и проблем, ведущих далеко за пределы рассудочной ясности».
Пространство между двумя стульями участников процесса в сессии может оставаться пустым, как нейтральная полоса, разделяющая границы разных государств. И тогда велика, может быть, вероятность того, что клиент уйдет со словами: «Он (терапевт) сказал мне только то, что я и без него знал». Вообще вряд ли мы можем сказать что-то новое клиентам. Более того, слышат они ведь тоже то, что хотят слышать. Эта ситуация меняется, когда пространство сессии наполняется атмосферой, тогда оно превращается в настоящую сцену душевной жизни. Тогда появляется шанс, что клиент почувствует, что его понимают, и терапевтические отношения будут развиваться, проходя через выражение самых разнообразных чувств и мыслей. Терапевтическое понимание, как и понимание вообще, не поддается чисто логическим раскладкам, к пониманию не придешь через объяснение. Это прежде всего то, что связано с особенностями диалога в терапии, со свойствами терапевтического пространства.
С самого начала важно, чтобы возникла атмосфера доверия, и уже сразу нет единых рецептов ее создания. Некоторые терапевты носят с собой большую уверенность в себе, в своем методе и его превосходстве над всеми прочими способами работы с клиентами. Иногда эта уверенность заполняет все пространство сессии, поддерживает клиента в его поисках «того, кто знает, как надо, и кто поможет», и действует как симптоматическое утешительное средство. Такому знающему и уверенному терапевту приятно доверять. Однако иногда при этом теряется атмосфера самого клиентского переживания. И постепенно возникает ощущение, что терапевт увлечен своим методом больше, чем пришедшим к нему человеком, что «он очень квалифицированный, но меня не понимает». Терапевт и клиент остаются в этом случае только в сфере рассудка «всегда холодного, всегда отчуждающего». Конечно, может быть, не лучший вариант, если растерянность и неуверенность терапевта в ответ на проявления чувств клиента усиливает тревогу и тоже мешает возникновению доверия в терапевтическом пространстве. Это скорее вопрос о способности терапевта быть не слишком увлеченным своей собственной атмосферой (или наоборот, только атмосферой клиента), не «принимать клиента в свою систему координат», а принимать его вместе с его системой координат, уметь обнаруживать его в пространстве, воспринимать его атмосферу, предстоять ему, оставаясь собой. Тем более что дальше, на основе возникшего (но не безграничного) доверия пространство и атмосфера сильно меняются, превращаясь то в поле боя, то в тихий омут, то еще во что-то. И здесь технически важна способность к сосредоточенно-рассредоточенному вниманию, чтобы воспринимать мир клиента во всей возможной полноте и ясности. Сосредоточенность на происходящем, на всех вербальных и невербальных проявлениях клиента, своих чувствах и ощущениях, при этом возникающих. Рассредоточенность «тоннельного видения» в пределах того или иного терапевтического направления или уже сложившейся гипотезы. Терапевтом задаются только самые внешние границы пространства-времени: место и время сессий, а дальше сосредоточенная рассредоточенность помогает не задавать, а создавать совместное терапевтическое пространство.
И, наконец, субъектная отнесенность. Это прежде всего то, как определяет и описывает клиент свои проблемы по отношению к себе самому, где вообще находится центр его душевного мира. Либо он сам является тем солнцем, вокруг которого вращается вся остальная система, обращая внимание прежде всего на свои внутренние переживания, видоизменения своего внутреннего мира, тогда мы имеем дело с более «интравертированными» проявлениями лирического героя. Либо конфликт находится в пространстве отношений между людьми, и тогда это ближе к драматическим жанрам. Или конфликт лежит в сфере семейных или национальных ценностей, ритуалов и традиций, и тогда мы приближаемся к эпосу. Позиция терапевта при этом тоже будет разной. Так же как мы по-разному читаем, смотрим и вообще воспринимаем эпические, драматические и лирические жанры.
Здесь снова в связи с разнообразием упомянутых характеристик может возникнуть вопрос: «зачем все это? Зачем понимать и определять все эти жанровые особенности клиента?» И ответ, как всегда, будет и простым и сложным. Во-первых, это сродни вопросу «зачем понимать?» вообще, через который мы выходим к вопросу о целях психотерапии. И если мы только хотим помочь в некоторой конкретной жизненной ситуации (с чем чаще всего и приходят клиенты), путь понимания далеко не самый прямой и легкий. Во-вторых, если говорить о возможностях диагностики в личностных направлениях в терапии, обращающихся не к всеобщему, но именно к частному, индивидуальному и неповторимому в человеке, то такая диагностика должна предполагать не только «ход через форму к внутреннему содержанию» (приснившийся банан может «обозначать» очень разные вещи, а может и просто оказаться бананом; только примитивный символизм в терапии и в психодиагностике может стремиться к однозначному толкованию и непременно к толкованию), а исследование самой формы в ее динамичных взаимоотношениях с содержанием. В-третьих, жанр — как раз такая характеристика, «содержательная форма», которая дает возможность приблизиться к исследованию взаимоотношений формы и содержания в клиентской истории. И, наконец, клиент потому и приходит к нам, что что-то «застыло» в его жизни, ему трудно выскочить из какого-то «замкнутого круга». Расширение жанровых возможностей, преодоление границ жанра является прообразом терапевтического процесса. Техническая реализация этой идеи возможна через прямое обсуждение с клиентом жанра его истории и открытого разыгрывания проблемы в этом жанре. Но и не только такая «прямая» реализация идеи возможна. Даже и без нее размышления о жанре могут не остаться бесплодными. Сервантес начинает писать пародию на рыцарский роман, и получается «Дон Кихот». Соблюдаются каноны рыцарского романа как жанра, происходит выход за пределы канонов, но суть человеческого стремления к благородству со всеми своими взлетами и падениями оказывается шире писательского сатирического запала, и выходит новый рыцарский роман нерыцарского времени, или просто роман, конкретизировать жанр которого уже не так просто: он не рыцарский и не сатирический, он вышел за жанровые границы. Такой выход за жанровые границы предполагает в некотором идеале хорошая терапевтическая работа.
В заключение хочется сказать, что психотерапия сама по себе тяготеет к жанру комедии (хотя это не всегда ясно с самого начала) уже потому, что в «каноническом» варианте по окончании терапии все остаются живы. Мы имеем в виду широкое понимание комедии (свой «Вишневый сад» А.П.Чехов обозначил как комедию), как жанра, в котором жизнь продолжается, несмотря на то, что когда-нибудь неизбежно закончится. А потому давайте не будем терять чувства юмора (в каком месте своего тела вы чаще его ощущаете?), которое несомненно может помочь работать в этом жанре, и вообще является одним из главных профессиональных (и человеческих) качеств психотерапевта.
И.С. Захарян
1. Аристотель. Поэтика.Тбилиси: Ганатлеба, 1979.
2. Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М.:Художественная литература, 1972.
3. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М.: Художественная литература, 1975.
4. Бубер М.Я. Я и Ты. – М.,1993.
5. Перлз Ф. Гештальт-семинары. М., 1998.
6. Тынянов Ю.Н. Литературный факт // Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977.
7. Чехов М. О технике актера. М.,2002.
________________
2. Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М.:Художественная литература, 1972.
3. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М.: Художественная литература, 1975.
4. Бубер М.Я. Я и Ты. – М.,1993.
5. Перлз Ф. Гештальт-семинары. М., 1998.
6. Тынянов Ю.Н. Литературный факт // Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977.
7. Чехов М. О технике актера. М.,2002.
________________
- Впервые напечатано в сборнике материалов МИГТИК «Гештальт-терапия и консультирование», вып.4, 2004.
Литература