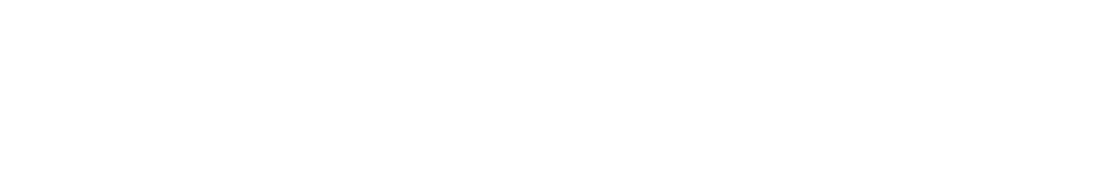«Не оставляйте меня одну»
Мое знакомство с Ириной Андреевной произошло задолго до того, как я начала с ней работать. Несколько лет назад ей рекомендовали меня, как консультанта по поводу имеющихся у нее панических приступов (страх смерти), сопровождающихся сордцебинением, подъемом артериального давления, головокружением, дрожью в теле и полиурией в конце пароксизма. Из анамнеза стало известно, что подобные приступы вместе с ожирением развились постепенно, в течение 7 лет после лечения гормональными препаратами. Будучи вначале четко очерченными, и редкими (1-2 раза в 2-3 месяца), приступы, к моменту консультации, приобрели большую частоту и размытость, как по времени, так и по симптоматике. Снизилась интенсивность страха, приступ стал предваряться сенестопатиями (неприятные тягостные ощущения в области сердца), появилась неуверенность в движения, страх пошатнуться и упасть назад. Эти пошатывания носили чисто субъективный характер , Ирина Андреевна называла это “круженьем”. Я расценила этот статус как диэнцефальные расстройства и назначила феназепам и амитриптилин по схеме 1ММИ, препараты сосудистого и ноотропного ряда, что впоследствии значительно сократило количество и интенсивность пароксизмов.
И, вот, звонок через 3 года. Жалобно-умоляющий голос Ирины Андреевны просит приехать. Я тяну: “Э-э-э-э-э…” — она живет в полутора часах езды от моего дома, но за мной обещают прислать машину. Ирина Андреевна просит уже не о консультации — о работе с ней и обещает платить за дальность ровно в два раза больше обычной платы. Что ж, условия меня устраивают, я готова. Несколько смущает терапия на дому, однако Ирина Андреевна обещает все объяснить при личной встрече.
Итак, первая встреча. Она, как и две последующие, представляют собой интервью. Жалобы Ирины Андреевны, систематически изложенные, представляют целую систему навязчивых страхов.
1. Страх выйти из квартиры (не выходит одна, даже к машине, не ходит по улицам).
2. Боится остаться в квартире одна (страх смерти), оказаться без помощи. При ней обязательно находится либо муж, либо другие родственники.
3. Страшится упасть во время “круженья”.
4. Боится находиться в подъезде, так как может упасть на лестнице, и поэтому, несмотря на свою комплекцию бежит так, что родные не поспевают.
5. Есть страх, что на улице (или в поликлинике) унизят из-за лишнего веса.
Продолжающиеся диэнцефальные приступы легко купируются приемом седуксена или атаракса. Кроме того, она отметила частые головные боли, неприятные ощущения в прекардиальной области, слабость в ногах. Часты аффективные колебания, периоды плохого настроения непродолжительны (максимум одна неделя).
Фобические расстройства появились у И.А. после нелегкой жизненной ситуации. Муж пациентки привез из другого города от бывшей жены (спившейся) своего сына 11 лет. Мальчик последний год жил один, “бомжевал”, принимал алкоголь и наркотики, воровал. Отец надеялся, что в нормальной семье мальчика можно будет исправить.
Пациентка, живущая с мужем и двумя детьми в однокомнатной квартире, спокойно восприняла приезд пасынка, однако, неожиданно для себя оказалась один на один (отец много работал и мало бывал дома) с малолетним бандитом, угрожающим прирезать, открыть газ ночью, ворующим деньги и веще, скитающимся по чердакам и подвалам. Когда мальчик украл у И.А обручальное кольцо (она придавала этому символу семейных уз особое значение) терпение ее истощилось. Она САМА поставила мужу ультиматум — развод или сына возвращают матери (что и было сделано). Чувства вины по этому поводу не испытывала, по ее словам “натерпелась столько, что не до вины”. Фобии, однако же, появились именно после попытки разрыва с мужем. Перестала выходить из дома одна, в городе передвигалась только на машине вместе с мужем.
С точки зрения бывшего психиатра, диагноз И.А. не представлял для меня особых затруднений. Ее фобии на фоне вегетативных, сенсомоторных и аффективных расстройств, завершились появлением идеаторного компонента (навязчивые мысли) и возникали у пациентки при одном представлении травмирующей ситуации (диагностические критерии по Н.Д. Лакосиной с соавт, 1994). В какой-то степени радовало отсутствие ритуалов (меньше работы!). Таким образом, диагноз ее укладывался в шифр 3000.2 — невротические фобии по МКБ-9.
Безусловно, мне были интереснее настоящие причины возникновения именно такой симптоматики у пациентки.
Семейные отношения у И.А. и до этих событий строились на конфлуэнтной основе. В этой семье не принято было ссориться и выяснять отношения, кричать, резко разговаривать (по типу негласного договора с мужем). Поэтому, опасность разрыва отношений по инициативе самой И.А., с моей точки зрения, резко качнула маятник в сторону слияния. Большую роль здесь могла сыграть и ненадежность системы отношений с мужем (пациентка не была уверена, что он к ней будет относиться по-прежнему), вследствие этого именно фобии оказались способом возврата к прежней системе отношений. И даже дедушка Зигмунд в свое время (Z/ Freud, 1954 “Libidnal Types”) поучаствовал в описании именно такой (он ее назвал эротической?) структуры характера — “…Ими правит страх потерять любовь, он держит их в особой зависимости от тех, кто способен воздержаться от любви к ним.”
Запрос, сформулированный И.А. по моей просьбе, включал избавление от фобий. При этом критерием выздоровления или улучшения состояния послужит возможность самостоятельного передвижения по улице (хотя бы до садика или магазина). Помимо этого в запросе тихо, но явственно прозвучало желание пациентки найти, с помощью терапевта, другие способы отношений с членами семьи (совет терапевта).
Еще две сессии были посвящены отношениям в родительской семье пациентки. Семья эта была в полной до ее пяти лет, после чего “отец бросил мать и спился”. Из детских воспоминаний самое яркое, как отец ревновал мать и придя с работы, сначала заглядывал в окна — “с кем она?”. До 17 лет отца не видела, а когда ей его показали соседки на улице и он не узнал дочь, испытала сильное разочарование. Это была последняя встреча с отцом.
Мать И.А., властная и жесткая женщина, растила дочь в постоянной системе долженствования. Она много работала и была немногословна с детьми. В ее системе воспитания была работа “на плантациях” у дедушки с бабушкой. Пациентка до сих пор обижается на них (и на мать, которая ее обязывала) за то, что имея сына — ровесника пациентке, они использовали для этих работ ее и платили матери молоком и салом (“как не родные”). Росла в стесненных материальных условиях и после окончания школы сразу пошла работать, “чтобы одеться прилично”. Через год, дабы избежать постоянного контроля матери “уехала на Север”, где и вышла замуж. С мужем прожили около трех лет, затем развелись из-за пьянства. В эту пору старшей дочери было 2 года. Время это, И.А. вспоминает с удовольствием. Много работала (диспетчером на транспорте), получала приличную зарплату, хорошо одевалась и одевала дочь, ездила на юг отдыхать.
Через 2,5 года вышла замуж вторично, за А.Д., который к тому времени был в разводе с первой женой, и затем переехала в Н-Новгород. До развития фобий работала в фирме у мужа секретарем. В последние два года дважды попадала с мужем в автоаварии, что закончилось, к счастью, лишь сотрясением мозга и переломом плеча без последствий.
Мое первое впечатление от пациентки было каким-то неоднородным. Женщина явно вызывала симпатию, но и удивление тоже. С одной стороны начитанность — имеет представление о психоанализе, психосоматических заболеваниях, психотерапии (библиотека мужа) и ясный ум, с другой стороны, постоянное лечение у колдунов, дедов, экстрасенсов, смывающих с ее лица “белую, как молоко воду”, разговоры о порче и сглазе, “клыке, найденном на люстре” и т.п.. Хорошо излагает свои мысли, подбирает точные слова, речь хорошо продуманна и рациональна. Интересна поза — садится так, чтобы была дополнительная опора, хоть подушку под бок… Когда садится, вся обмякает, такое впечатление, что позвоночник ее не держит. Просит разрешения параллельно лечиться у “дедки” — разрешаю. Размышляю о том, как можно поработать гештальт-терапевту в рамках этих представлений. Однако И.А. вполне обошлась без мифологической модели. Впрочем, все модели терапии в рамках своего мифа… И гештальт-терапия — не исключение!
Уже первые сессии дали представление о механизмах прерывания контакта и типе личности пациентки. Естественно — это был невротический тип, использующий конфлуэнцию и интроекцию. Уже первые сессии, как и многие другие, заканчивались традиционной мольбой “Не оставляйте меня одну” или “Не бросайте меня”. С точки зрения биоэнергетической теории доминирующий паттерн поведения представлял комбинацию оральности (ну, очень много) с мазохизмом (в плане доминирования Сверх-Я).
Оставалась проблема “ездить — не ездить”. В пользу — “ездить” — решило вопрос любопытство, захотелось увидеть пациентку в домашних условиях. На мои осторожные вопросы о семейных отношениях следовало такое благолепное их описание, что этому оставалось только тихо завидовать. Однако мои скромные познания в области психотерапии позволяли предполагать сильные конфлуэнтные тенденции, с помощью которых И.А. строила свой семейный уклад. Любопытство было увидеть это не за кулисами описания, а своими глазами.
Работа с И.А. (24 сессии в течение 7 месяцев) разделилась не столько по содержанию, сколько в связи с постепенно выделяющимися из фона фигурами и акцентами в терапии, на три этапа.
На первом — естественно выделялась мощная фигура СТРАХА, заменяющего во многих ситуациях другие чувства. Работа с И.А. была направлена на сознавание и дифференциацию чувств, контакта со страхом. Основная потребность — в безопасности и защите, что выражалось в желании избавляться от неопределенности, непрогнозируемого окружения.
Вторая стадия ознаменовалась стимулированием сознавания агрессивного импульса и фасилитацией агрессии, как основной фигуры, покоящейся на солидном фундаменте интроективных запретов. Терапия фокусировалась на восстановлении способности пациентки к идентификации-отчуждению (в контексте проблемы), выделению протеста и его предъявлению. Страх уходит в фон, интенсивность его снижается, диэнцефальные пароксизмы исчезают.
На третьей стадии фигурой становятся терапевтические отношения, отношения с матерью и мужем. На смену потребности в безопасности приходит (ну, как тут не вспомнить пирамиду А. Маслоу!) потребность в поддержке и заботе, что ведет, в конце концов, к разворачиванию проективного механизма и обнаружению незавершенных ситуаций в отношениях с близкими. Фокус работы с пациенткой — манипулятивные стратегии общения и самоманипуляции, механизмы прерывания контакта, отношения с терапевтом (вопросы зависимости) и родными.
Но вернемся от более отстраненного восприятия работы с И.А. к более непосредственному и раннему по времени.
Первая сложность — пациентка готова говорить о чем угодно в прошлом (3 года или 3 минуты назад — все равно!), но не о том, что с ней сейчас. Настоящее составляло лишь небольшую часть того, что происходило между нами. Вторая сложность — в дифференциации чувств, хорошо знаком только страх, а остальные чувства “сейчас” не бывают (фобия переживаний), только в прошлом. Было некоторое ощущение, что вопросы, адресованные чувственной сфере, звучат для пациентки на иностранном языке. И.А. смотрела куда-то в сторону, говорил, что не понимает, о чем идет речь, погружалась в прошлые события (по-видимому, это было то, что Польстеры называют ДЕФЛЕКСИЙ). В общем гештальт-натиск не прошел, пришлось ковыряться в “собачьем дерьме” по принципу “расслабься и получи удовольствие”.
Вместе с тем я пыталась использовать все подходящие моменты для стимуляции самовыражения И.А. Хочется привести здесь, для подтверждения собственной правоты, светлые слова К. Нараньо: “Каждый акт самовыражения является не только возможностью для самосознания, но и раскрытием перспективы действия — интенсивного переживания, в котором пациент учится, до известной степени, что он может быть самим собой, не ожидая катастрофических последствий, разрушая фобийные модели, узнавая, что выражать себя — это и удовлетворение и основа для настоящего контакта с другими.”.
Так мы разобрали с И.А. ее страх хоть бы по улице. Он выглядел, как проекция негативного отношения к своей полноте — “всегда найдется человек, который этим ударит”. Если по честному, то и не совсем дисфункциональная проекция, такие люди реально находились. Правда, не на каждом шагу, как ей казалось. К этому страху относился и диагноз “алиментарное ожирение”, который обижает. При этом, мило улыбаясь, говорит агрессивные по содержанию слова. Ну тут-то, “истосковавшись по настоящей работе”, я ткнула пальцем в явную неконгруэнтность и даже получила согласие И.А. в том, что агрессивный импульс существует. Это было уже кое-что, как и определение интроективного запрета на выражение протеста (цитирует Библию). И даже установлена связь этого запрета с низкой самооценкой — “протестовать имеют право только люди с высокой самооценкой”. Последнее выглядело типичной манипуляцией для сохранения статус-кво, что и подтвердилось “жалобным проективным блеянием” в конце сессии “меня отрезали от жизни”, “меня тащит назад” и т.п..
Под конец выражено первое и такое недовольство отношениями с мужем. Было бы славно, если бы он всегда был под рукой… Но пациентка понимает, что это невозможно, кто-то же должен приводить ребенка из садика. Недовольство касается того, что на ее приступы и страхи “он реагирует, как врач и советует взять себя в руки”. “Что-то тут есть от невротической потребности в слиянии, а что-то от здоровой потребности в любви и заботе” — размышляю я, но сделать пока ничего на могу — время сессии закончилось. Договариваемся обсудить эту проблему в следующий раз.
На следующей встрече недовольство мужем было ретрофлексировано и “забыто”, а И.А. начала ее с недовольства собой, как с матерью. Причитания по этому поводу перемежались косвенной агрессией в мой адрес. Я злилась вновь и вновь “натыкаясь на пустоту” внутри пациентки, ее растерянность и беспомощность. И постепенно начинала соображать, что все означенное (недовольство матерью, мной как матерью, собой, как матерью) уже имеет отношение к нашему контакту. А матерью ее мне быть явно не хотелось, этот беспомощный ребенок весом в 100 с лишним килограммов, был для меня пока неподъемным.
В связи с этим, акцент на наших отношениях в работе появился гораздо позже, а в то время, подустав от ее манипуляций, я попыталась, в течение нескольких сессий, сфокусировать внимание И.А. на различении реакции протеста (если что не нравится, так и скажите!) и ее выражении. Попутно, в подходящий момент, был материализован ЕЕ СТРАХ. Честно говоря, я была сильно разочарована. Это был не монстр, а серенький, лохматенький и грязненький страшок, сильно напоминающий ребенка (интересно, насколько он был похож на пасынка?), суетящийся, жмущийся к углу и, похоже, боящийся хозяйку. На меня же, ей-богу, он (И.А. на втором стуле) поглядывал с ненавистью.
Хозяйка страха была довольно спокойна и сама ничего с ним делать не захотела Моя провокация — “прогнать!”” была воспринята довольно вяло, а страх уходить не захотел. Проверка отношения к нему вызвала стереотипную реакцию:
-Боюсь.
-А как к нему еще относишься?
-?
-Какие чувства он еще вызывает?
-Жалость…удивление… И И.А. удивляется тому, что можно испытывать к нему что-либо, кроме страха.
Еще одна попытка увидеть свои страхи — рисунок. И.А. рисует “почему она не может выйти на улицу”. На бумаге поочередно появляются барьеры.
1 барьер — бабушки на скамейке перед подъездом. Могут унизить (и один раз уже жалеючи сказали:” Ты бы ночью гуляла что ли!”
2 барьер — угол дома, “там меня закружит и я упаду”.
3 барьер — улица, толпа, люди… Среди них есть такие, которые могут проявить агрессию. Все три барьера располагает внизу листа справа. Тут и лавочка, и угол дома, и улица и, очень крупно, страх приступа, состоящий из трех элементов: паники (черная извилистая линия), кружения (красным) и толчка (желтая краска). Особенно крупно — черные прямоугольники и квадраты — барьер, не дающий выходить и общаться с людьми. Свой дом, без двери, пациентка рисует в верхней части листа. Дом — желтый, без намека на опору парит в облаках.
Далее я предложила поработать со страхами, но при этом сделать это так, чтобы встречаться с ними было безопасно. И.А. не без удовольствия рисует красную дорожку в детство (рассказывает, попутно), к озеру, к деревенскому дому, к колодцу, из которого любила обливаться водой, к дереву, под которым сидела… После чего, подходит к первому барьеру и синей краской (вода) уничтожает бабушек на скамейке и толпу, которая так страшна своей возможностью унизить. Совершив, и вполне сознавая это, сей агрессивно-ресурсный акт, пациентка, как это ни странно, могла впоследствии ответить на очередную инсинуацию пенсионерок и была очень довольна. Эти колдовские, на первый взгляд, действия, а по сути — взаимодействие со своей проекцией, снизили интенсивность ее страхов (пока в фантазии — пациентка без содрогания представляла себя на улице, перед подъездом). Остался страх перед панической атакой со всеми ее компонентами, неприятные ощущения в прекардиальной области (“что-то переворачивается”). Сами же панические атаки, как таковые, исчезли.
Работая с рисунком, я стремилась стимулировать И.А. переживать состояние страха, как только оно появлялось, описывая, что с ней происходит и “не умирая от страха”. Кстати, дома во время одного из приступов гипертензии, сопровождавшегося тревогой, И.А. сумела пережить страх без таблеток и отметила с воодушевлением, что давление нормализовалось.
Продолжая “колдовать” с рисунком, я попросила пациентку зафиксировать на бумаге заветное желание (и, что не вырубить топором!), а также одну из реакций во время мысленной прогулки по улице, когда, пошатнувшись, она сказала себе : “Ну, толчок…” (в смысле — “Ну и что? Ничего особенного!”). Такая работа помогла пациентке справиться со страхом перед панической атакой поочередно с каждым из элементов (технологию см. Л.Н. Толстой “Рассказы для детей”, притча “Отец приказал сыновьям…”, 4 и 5 строчки).
Будучи зафиксированными на бумаге (прилипли?) страхи утратили свою силу с помощью водных ресурсов. В целом же , чем более знакомыми и конкретными становились страхи, тем меньше становилась их интенсивность и значимость для пациентки.
В дальнейших сессиях пациентка несколько раз уделяет время сравнению родительской и собственной семьи. Ее собственная семья, ее поведение в ней, по утверждению И.А., совершенно противоположны родительской и поведению матери. У нее все по-другому. Это сильно напоминает мне негативный комплекс — защита от матери. “Его лейтмотив — все, что угодно, но только не как мать… …Такая дочь знает все, чем она не хочет быть, однако ей, по большей части неведомо, что же она, собственно, помышляет про свою собственную судьбу.” (К. Юнг “Психологические аспекты архетипа матери” 1954). В родительской семье мать выполняла жесткую контролирующую функцию, определяя поведение детей (у пациентки есть брат). В собственной же семье И.А. несет по сути ту же функцию, но уже в “мягком” — манипулятивном варианте.
Она сама и ее болезнь — центральное связующее звено в семейных отношениях. У нее “все по-другому” — домработница, личный шофер, массажист и психотерапевт. И этим она управляет сама, чему я не раз была свидетелем. Пока она не имеет представления о своем сходстве с матерью и немного знает о различиях. Однако уровень сознавания себя у И.А. еще таков, что сфокусировать ее внимание на этом бесполезно. Да и тема звучит как-то “боком”. И я пытаюсь стимулировать переживание ею настоящего момента, различение собственных желаний.
Тема начинает звучать громче после звонка матери, которая на ее приглашение жить с ними (она жила в станице на юге), сказала, что приедет, если ее будут слушаться. Ну вот, опять жалобный голос: “Можно я Вам буду рассказывать, советоваться” Мне важно мнение еще одного человека”. По сути это скрытый вопрос о том, как лучше управлять матерью, ибо отказать ей И.А. трудно. И вновь, фокусирование на границе “Я” и “не-Я”, “мои желания — не мои желания”, выражение протеста, как формы агрессии. Впрочем, вяловато… И.А. не то, чтобы совсем не имеет желаний, она не имеет своих собственных, тех, которые бы противоречили желаниям других людей. Она часто устает от визитов в их однокомнатную квартиру подруг ее дочери, но никогда не говорит ей об этом. Ей слишком сложно находиться в оппозиции, требовать, она предпочитает убеждать.
Я явно чувствую, что в наших отношениях с И.А. появилось нечто, мешающее двигаться дальше. Пациентка часто “не понимает и не слышит”, о чем ее спрашивают, жалуется и ноет, не выполняет домашние задания, приходит в замешательство и косвенным образом ставит мне это в вину, ведет себя так, как будто бы меня нет… И.А. почти не смотрит на меня, лицо обиженное, обиду отрицает. После каждой сессии у нее болит голова, о чем она рассказывает мне в начале следующей. Я же злюсь и устаю, страдаю от ощущения своей неэффективности (ну что-то же можно с этим делать! Только что?), избегаю тревоги, структурирую ситуацию информацией и совсем не проявляюсь, как живой, со своими чувствами и потребностями, человек. Я почти в отчаянии. Куда же это я делась?
Наконец, случайная подсказка, как выйти к тому, что волнует меня в наших с пациенткой отношениях, обходя запрет на выражение агрессии. Это метафора, И.А. вдруг дает яркий образ: “Мы с Вами разговариваем, как через стеклянную дверь… И это точно между нами. С этим можно работать!
В тот же период прошу сувервизию у Олега Немиринского. Не могу понять двух моментов. Первое — как это пациентка делает так, что я с ней не конфронтирую. Не то, чтобы я бессильна (нет, я еще хорохорюсь!), но явно потеряла подвижность. Второе — насколько можно себе позволить удовлетворять потребность пациентки в “доброй маме”? Принципиально я не против, да что-то мешает. В конце супервизии вопрос стоит уже иным образом: “А, собственно, почему я не могут себе позволить пожалеть И.А.? “ Похоже, что ей действительно не хватает моей поддержки. Временами она напоминает мне несчастного обиженного ребенка… Может быть боюсь пожалеть? А чего? Зависимости, нытья… а дальше чего? А, ничего! Увижу эту зависимость ярко — разберемся! Надо только продолжить свой страх до конца и … появляются варианты работы…
(Сейчас я про это думаю так. Здесь важно поддерживать обе трансферентные тенденции. Негативный перенос (то, что пациентка привносит в наши отношения, то, как она организует переживание меня, в качестве еще одной авторитетной личности в ее жизни) и ту часть, которая скрыта и существует, как идеал, пример для терапевта, скрывающую в себе дефицитарную потребность. Сначала потребность в безопасности, что проявляется в ее стремлении уйти от неопределенности настоящего момента к определенности ее прошлого и сделать мои действия узнаваемыми и прогнозируемыми. Затем, потребность в любви и привязанности, в чем у нее нет убежденности, как по отношению к мужу и матери, так и ко мне.
Сомнения же мои и неуверенность относятся к тому моменту, насколько это можно поддерживать, чтобы напряжение оставалось рабочим. С другой стороны, пока не удовлетворена дефицитарная потребность в любви и привязанности не завершилась эта ситуация, откуда бы взяться потребности в автономии и независимости. Как я понимаю, должен пройти период символического доращивания невротического пациента для обретения им способности к самоподдержке и перехода на более высокий уровень личностного развития. У Е.Т. Соколовой это звучит так: “Спроецировав в Другого часть своего Я или “позаимствовав” ее от Другого, пациент становится с ним неразрывно связанным, поскольку только во взаимосвязи он способен компенсировать ущербность и самонедостаточность. Только относясь к Терапевту, не как к Другому, а как к части самого себя, как к своей собственности, овладевая и управляя им, как собой (а собой, как им), пограничная личность достигает, пусть иллюзорно, подтверждения чувства самоидентичности, утратив при этом чувство индивидуальности — своего своеобразия и автономности” (Е.Т. Соколова “Психотерапевтический контакт в работе пациентами, страдающими пограничными расстройствами). И этот период всегда есть! Вместе с тем, в кладовой моей памяти хранится идея совмещения реалистического и символического планов (О.В. Немиринский). С совмещением, признаюсь, пока сложно… но я оптимистично смотрю в будущее!
И это сразу проявилось в терапевтических отношениях. И, хотя И.А. пока не рискует проявить свои чувства ко мне напрямую (с матерью это никогда не было возможным), фантазии же про наши отношения стали более свободными и в них появился намек на сотрудничество: “по улице, вдоль высоких домов мы идем куда-то вместе”. При этом мне удается конфронтировать с ее манипулятивным поведением — оправданиями и задабриваниями, молчаливыми притязаниями и испрашиванием разрешения, замаскированными требованиями и утверждениями, имеющими внешний вид вопросов. Пустота и замешательство как будто бы становятся более редкими.
К этому моменту И.А. рапортует, что уже прямо предъявляет свой протест близким — мужу и дочери. Правда, называет это ростом раздражительности, но при этот тут же вспоминает, что исчезли панические приступы и пошатывание. Боится, что они вдруг появятся.
И, наконец, в сессии напрямую говорит о своем недовольстве мужем. Она не уверена в том, как он к ней относится, ведь он разговаривает по телефону со своей бывшей женой и ее родственниками (И.А. все еще боится, что он к ней вернется). Все финансовые вопросы в семье решает он, у И.А. нет права на голос — деньги зарабатываются не ей. От него трудно добиться ясоного ответа, он уклончив.
Именно в этой сессии пациентку постигает инсайт — она сама произнесла эти слова: “Наверное, я все-таки не хочу выходить на улицу”. А следующая, закономерно, началась с амнезии этих слов (и так не раз и не два в наших встречах) и ухудшения общего состояния. И.А. вновь несчастна, “давление скачет”… В то же время, косвенным образом (словами подруги) говорит об улучшении состояния в целом.
И далее, уже без экивоков, снова про мужа: он “не понимает ее”, “его не устраивает ее болезнь”, “его раздражает, когда она плохо себя чувствует”. Между тем, С.Н. ни разу не сказал ей об этом напрямик. Ключевым вопросом терапии стал (несколько иезуитский, по моему) вопрос — “Если бы Вы были полностью здоровы и ходили бы улицам спокойно, что изменилось бы в Ваших семейных отношениях?” Ответ пациентки был неожиданным даже для нее:
-Я бы развелась с мужем… И далее в быстром темпе и очень конгруэнтно:
-Он не выполняет договоров… Он все решает сам… Он не дает денег… Он решает, что для меня купить, а что нет… Он не реагирует на крик… Я проваливаюсь, как в вату…
Затем, позволив себе эту агрессию, И.А., по обыкновению, (агрессия — вина — агрессия — вина), откатывается назад:
-Он хороший, он зарабатывает деньги для семьи, он замечательный отец…
Здесь я делаю, довольно рискованную интерпретацию по поводу того, как пациентка удерживает себя от развода (по сути, акцентируя внимание на ее же словах) с помощью навязчивых страхов и соматических проявлений. И.А., впервые, воспринимает эти слова без обычной обиды (а я делаю банальный, но глубоко прочувствованный вывод о пользе своевременных и вреде несвоевременных интерпретаций).
Теперь не страхи, а отношения в семье, становятся главной (и, мне кажется, “настоящей”) фигурой терапии и И.А. переформулирует запрос на “решение семейной проблемы”. “Маленькая месть” пациентки — “ужастик” из жизни современной молодежи в конце сессии (подвала, изнасилования, наркотики, пытки). “У Вас ведь тоже есть дочь?” — невинно спрашивает пациентка.
В семье, кажется, происходят какие-то подвижки… Даже С.Н., везущий меня на собственной “Волге” к И.А. рассказывает мне страшилки. Где была какая авария, что от кого осталось, а также где, кого и как зарезали ножиком… Сижу на заднем сиденье и соображаю, где в машине наиболее безопасное место. Мою книжку по психиатрии обещал отдать уже раз пять , причем сам, я не напоминала. Ранее за ним этого не наблюдалось… И, вообще, размышляю о нем, экспериментирую… В ответ, действительно, ни”да”, ни “нет”, ответы мягки, уклончивы… Собственное ощущение — в этого человека проваливаешься… или проходишь сквозь… Вспоминаю слова И.А. — “С.Н. воспитывали три женщины и вот… воспитали…”
20 сессия — типичный краткосрочный курс психотерапии закончен. Итак, наши приобретения… Переезд на новую квартиру. И.А. руководит, циркулирует из подъезда в квартиру и обратно, остается во дворе одна. Приступов нет, артериальное давление лишь один раз поднялось до 140 на 100. И.А. научилась справляться с тревогой и катастрофическими мыслями без препаратов за 2-3 минуты.
Продолжает тему отношения с мужем. Проблему видит в том, что не уверена в чувствах С.Н. (я возвращаю проекцию), да и в своих тоже. Пациентка вспоминает, что не знает любви. Фокусируясь на потребности — от С.Н. хочет внимания и заботы. Пытается добиться этого манипулятивным путем — акцентирую внимание на прямом выражении потребности, благо и по отношению ко мне таких возможностей порядочно. Конфронтирую с постоянной склонностью И.А. к навязчивым оправданиям (словно ребенок перед матерью или перед собой). “ Есть у меня в голове контролер”, — говорит пациентка.
Перед последними сессиями у меня возникает четкое ощущение, что меня надувают. Звонки, переносы сессий, договоры и их невыполнение, объективные причины — грипп, украли колеса… У С.Н. неприятности на работе. Проверить невозможно… да и какая разница… жду, что будет дальше, чертыхаясь…
22 сессия — полгода работы. Утренний звонок, слабый голос И.А. : “Плохо… тревога…неприятные ощущения в предсердечной области… нет опоры… Что там у них произошло? Вначале сессии — вдохновенный рассказ о заботливом муже сестры и сравнивание со своим со слезами, злостью в голосе. Выражение лица — детское, обиженное. Обращаю внимание на слезы, слабый голос, символический смысл мольбы — “будь моим папой (мамой?)…” Да он и сам без него вырос… задумчиво вспоминает И.А.
Впервые в наших отношениях я позволяю себе выразить раздражение из-за срыва сессий. Пациентка пугается, а я задумываюсь, каким образом выразила — вроде бы от себя. Скорее, контрпереносной здесь была бы реакция не выражать раздражение в ответ на косвенное предъявление агрессии со стороны “этой семейки”, а это для И.А. не ново. С.Н. так и делает… Все чаще и чаще отказываюсь отвечать на манипуляции, предъявляю собственные реакции и, с полным правом, хочу прямого предъявления чувств и желаний.
Но вот ситуация обостряется — приезжает мать. И сразу пытается установить привычный стиль отношений — приказы, шантаж (рассказ соседям о плохой дочери), крик. В ее присутствии “защита от матери” превращается в пшик. Две грозных матери на одну пациентку — это уж лишку и, поэтому, бдительно слежу за своими реакциями. И.А., по обыкновению, регрессирует: “Не бросайте меня!”. “Я здесь, с Вами и вправе рассчитывать на Вашу взрослую реакцию”, — отвечаю в двух планах, символическом и реалистическом. И И.А. говорит про этот простой способ сказать “нет”, там где посчитает нужным… И готова это делать. Я ей верю — в этот раз она достаточно энергетична. Хорошо бы поработать и с “да”, но “нет!” — пока актуальней…
Через неделю — запланированный торжественный выход на улицу. И.А. воспринимает это довольно спокойно. Стимулирую контакт со страхом. Гуляем около дома … идет отдельно… оглядывается, возвращается и радостно говорит, что вполне терпимо. Смотрит вверх на дом и чувствует сильный страх. А я почему-то вспоминаю ее слова: “Я смотрю на нее (мать) снизу вверх…”. И … классический пример из зоопсихологии, когда утенок (или цыпленок, не помню) принимает за мать любой крупный, находящийся в его поле зрения, объект… Бредятина, а интересно! Кстати, Ирине Андреевне в этом случае помогло сознавание ног и позвоночника — голова перестала кружиться и страх ушел…
Сессия эта (24-я) оказалась не то, чтобы последней. И.А. звонит мне периодически и говорит, что собирается работать дальше… Поживем — увидим… Пока же она выходит из дома на улицу, выезжала летом на турбазу. Дома, по-прежнему, не одна (с матерью). Панических приступов и сильного (парализующего) страха нет, с тревогой справляется, и все чаще без таблеток. Матери четко говорит “нет”, когда та нарушает ее границу.
И это, пожалуй, то самый момент, когда состояние улучшилось, первоначальный запрос удовлетворен, а проблемы стали только рельефнее. Что же, позвонит — поработаем! Про любовь-то мы еще не говорили ( см. эпиграф №2)…
И, вот, звонок через 3 года. Жалобно-умоляющий голос Ирины Андреевны просит приехать. Я тяну: “Э-э-э-э-э…” — она живет в полутора часах езды от моего дома, но за мной обещают прислать машину. Ирина Андреевна просит уже не о консультации — о работе с ней и обещает платить за дальность ровно в два раза больше обычной платы. Что ж, условия меня устраивают, я готова. Несколько смущает терапия на дому, однако Ирина Андреевна обещает все объяснить при личной встрече.
Итак, первая встреча. Она, как и две последующие, представляют собой интервью. Жалобы Ирины Андреевны, систематически изложенные, представляют целую систему навязчивых страхов.
1. Страх выйти из квартиры (не выходит одна, даже к машине, не ходит по улицам).
2. Боится остаться в квартире одна (страх смерти), оказаться без помощи. При ней обязательно находится либо муж, либо другие родственники.
3. Страшится упасть во время “круженья”.
4. Боится находиться в подъезде, так как может упасть на лестнице, и поэтому, несмотря на свою комплекцию бежит так, что родные не поспевают.
5. Есть страх, что на улице (или в поликлинике) унизят из-за лишнего веса.
Продолжающиеся диэнцефальные приступы легко купируются приемом седуксена или атаракса. Кроме того, она отметила частые головные боли, неприятные ощущения в прекардиальной области, слабость в ногах. Часты аффективные колебания, периоды плохого настроения непродолжительны (максимум одна неделя).
Фобические расстройства появились у И.А. после нелегкой жизненной ситуации. Муж пациентки привез из другого города от бывшей жены (спившейся) своего сына 11 лет. Мальчик последний год жил один, “бомжевал”, принимал алкоголь и наркотики, воровал. Отец надеялся, что в нормальной семье мальчика можно будет исправить.
Пациентка, живущая с мужем и двумя детьми в однокомнатной квартире, спокойно восприняла приезд пасынка, однако, неожиданно для себя оказалась один на один (отец много работал и мало бывал дома) с малолетним бандитом, угрожающим прирезать, открыть газ ночью, ворующим деньги и веще, скитающимся по чердакам и подвалам. Когда мальчик украл у И.А обручальное кольцо (она придавала этому символу семейных уз особое значение) терпение ее истощилось. Она САМА поставила мужу ультиматум — развод или сына возвращают матери (что и было сделано). Чувства вины по этому поводу не испытывала, по ее словам “натерпелась столько, что не до вины”. Фобии, однако же, появились именно после попытки разрыва с мужем. Перестала выходить из дома одна, в городе передвигалась только на машине вместе с мужем.
С точки зрения бывшего психиатра, диагноз И.А. не представлял для меня особых затруднений. Ее фобии на фоне вегетативных, сенсомоторных и аффективных расстройств, завершились появлением идеаторного компонента (навязчивые мысли) и возникали у пациентки при одном представлении травмирующей ситуации (диагностические критерии по Н.Д. Лакосиной с соавт, 1994). В какой-то степени радовало отсутствие ритуалов (меньше работы!). Таким образом, диагноз ее укладывался в шифр 3000.2 — невротические фобии по МКБ-9.
Безусловно, мне были интереснее настоящие причины возникновения именно такой симптоматики у пациентки.
Семейные отношения у И.А. и до этих событий строились на конфлуэнтной основе. В этой семье не принято было ссориться и выяснять отношения, кричать, резко разговаривать (по типу негласного договора с мужем). Поэтому, опасность разрыва отношений по инициативе самой И.А., с моей точки зрения, резко качнула маятник в сторону слияния. Большую роль здесь могла сыграть и ненадежность системы отношений с мужем (пациентка не была уверена, что он к ней будет относиться по-прежнему), вследствие этого именно фобии оказались способом возврата к прежней системе отношений. И даже дедушка Зигмунд в свое время (Z/ Freud, 1954 “Libidnal Types”) поучаствовал в описании именно такой (он ее назвал эротической?) структуры характера — “…Ими правит страх потерять любовь, он держит их в особой зависимости от тех, кто способен воздержаться от любви к ним.”
Запрос, сформулированный И.А. по моей просьбе, включал избавление от фобий. При этом критерием выздоровления или улучшения состояния послужит возможность самостоятельного передвижения по улице (хотя бы до садика или магазина). Помимо этого в запросе тихо, но явственно прозвучало желание пациентки найти, с помощью терапевта, другие способы отношений с членами семьи (совет терапевта).
Еще две сессии были посвящены отношениям в родительской семье пациентки. Семья эта была в полной до ее пяти лет, после чего “отец бросил мать и спился”. Из детских воспоминаний самое яркое, как отец ревновал мать и придя с работы, сначала заглядывал в окна — “с кем она?”. До 17 лет отца не видела, а когда ей его показали соседки на улице и он не узнал дочь, испытала сильное разочарование. Это была последняя встреча с отцом.
Мать И.А., властная и жесткая женщина, растила дочь в постоянной системе долженствования. Она много работала и была немногословна с детьми. В ее системе воспитания была работа “на плантациях” у дедушки с бабушкой. Пациентка до сих пор обижается на них (и на мать, которая ее обязывала) за то, что имея сына — ровесника пациентке, они использовали для этих работ ее и платили матери молоком и салом (“как не родные”). Росла в стесненных материальных условиях и после окончания школы сразу пошла работать, “чтобы одеться прилично”. Через год, дабы избежать постоянного контроля матери “уехала на Север”, где и вышла замуж. С мужем прожили около трех лет, затем развелись из-за пьянства. В эту пору старшей дочери было 2 года. Время это, И.А. вспоминает с удовольствием. Много работала (диспетчером на транспорте), получала приличную зарплату, хорошо одевалась и одевала дочь, ездила на юг отдыхать.
Через 2,5 года вышла замуж вторично, за А.Д., который к тому времени был в разводе с первой женой, и затем переехала в Н-Новгород. До развития фобий работала в фирме у мужа секретарем. В последние два года дважды попадала с мужем в автоаварии, что закончилось, к счастью, лишь сотрясением мозга и переломом плеча без последствий.
Мое первое впечатление от пациентки было каким-то неоднородным. Женщина явно вызывала симпатию, но и удивление тоже. С одной стороны начитанность — имеет представление о психоанализе, психосоматических заболеваниях, психотерапии (библиотека мужа) и ясный ум, с другой стороны, постоянное лечение у колдунов, дедов, экстрасенсов, смывающих с ее лица “белую, как молоко воду”, разговоры о порче и сглазе, “клыке, найденном на люстре” и т.п.. Хорошо излагает свои мысли, подбирает точные слова, речь хорошо продуманна и рациональна. Интересна поза — садится так, чтобы была дополнительная опора, хоть подушку под бок… Когда садится, вся обмякает, такое впечатление, что позвоночник ее не держит. Просит разрешения параллельно лечиться у “дедки” — разрешаю. Размышляю о том, как можно поработать гештальт-терапевту в рамках этих представлений. Однако И.А. вполне обошлась без мифологической модели. Впрочем, все модели терапии в рамках своего мифа… И гештальт-терапия — не исключение!
Уже первые сессии дали представление о механизмах прерывания контакта и типе личности пациентки. Естественно — это был невротический тип, использующий конфлуэнцию и интроекцию. Уже первые сессии, как и многие другие, заканчивались традиционной мольбой “Не оставляйте меня одну” или “Не бросайте меня”. С точки зрения биоэнергетической теории доминирующий паттерн поведения представлял комбинацию оральности (ну, очень много) с мазохизмом (в плане доминирования Сверх-Я).
Оставалась проблема “ездить — не ездить”. В пользу — “ездить” — решило вопрос любопытство, захотелось увидеть пациентку в домашних условиях. На мои осторожные вопросы о семейных отношениях следовало такое благолепное их описание, что этому оставалось только тихо завидовать. Однако мои скромные познания в области психотерапии позволяли предполагать сильные конфлуэнтные тенденции, с помощью которых И.А. строила свой семейный уклад. Любопытство было увидеть это не за кулисами описания, а своими глазами.
Работа с И.А. (24 сессии в течение 7 месяцев) разделилась не столько по содержанию, сколько в связи с постепенно выделяющимися из фона фигурами и акцентами в терапии, на три этапа.
На первом — естественно выделялась мощная фигура СТРАХА, заменяющего во многих ситуациях другие чувства. Работа с И.А. была направлена на сознавание и дифференциацию чувств, контакта со страхом. Основная потребность — в безопасности и защите, что выражалось в желании избавляться от неопределенности, непрогнозируемого окружения.
Вторая стадия ознаменовалась стимулированием сознавания агрессивного импульса и фасилитацией агрессии, как основной фигуры, покоящейся на солидном фундаменте интроективных запретов. Терапия фокусировалась на восстановлении способности пациентки к идентификации-отчуждению (в контексте проблемы), выделению протеста и его предъявлению. Страх уходит в фон, интенсивность его снижается, диэнцефальные пароксизмы исчезают.
На третьей стадии фигурой становятся терапевтические отношения, отношения с матерью и мужем. На смену потребности в безопасности приходит (ну, как тут не вспомнить пирамиду А. Маслоу!) потребность в поддержке и заботе, что ведет, в конце концов, к разворачиванию проективного механизма и обнаружению незавершенных ситуаций в отношениях с близкими. Фокус работы с пациенткой — манипулятивные стратегии общения и самоманипуляции, механизмы прерывания контакта, отношения с терапевтом (вопросы зависимости) и родными.
Но вернемся от более отстраненного восприятия работы с И.А. к более непосредственному и раннему по времени.
Первая сложность — пациентка готова говорить о чем угодно в прошлом (3 года или 3 минуты назад — все равно!), но не о том, что с ней сейчас. Настоящее составляло лишь небольшую часть того, что происходило между нами. Вторая сложность — в дифференциации чувств, хорошо знаком только страх, а остальные чувства “сейчас” не бывают (фобия переживаний), только в прошлом. Было некоторое ощущение, что вопросы, адресованные чувственной сфере, звучат для пациентки на иностранном языке. И.А. смотрела куда-то в сторону, говорил, что не понимает, о чем идет речь, погружалась в прошлые события (по-видимому, это было то, что Польстеры называют ДЕФЛЕКСИЙ). В общем гештальт-натиск не прошел, пришлось ковыряться в “собачьем дерьме” по принципу “расслабься и получи удовольствие”.
Вместе с тем я пыталась использовать все подходящие моменты для стимуляции самовыражения И.А. Хочется привести здесь, для подтверждения собственной правоты, светлые слова К. Нараньо: “Каждый акт самовыражения является не только возможностью для самосознания, но и раскрытием перспективы действия — интенсивного переживания, в котором пациент учится, до известной степени, что он может быть самим собой, не ожидая катастрофических последствий, разрушая фобийные модели, узнавая, что выражать себя — это и удовлетворение и основа для настоящего контакта с другими.”.
Так мы разобрали с И.А. ее страх хоть бы по улице. Он выглядел, как проекция негативного отношения к своей полноте — “всегда найдется человек, который этим ударит”. Если по честному, то и не совсем дисфункциональная проекция, такие люди реально находились. Правда, не на каждом шагу, как ей казалось. К этому страху относился и диагноз “алиментарное ожирение”, который обижает. При этом, мило улыбаясь, говорит агрессивные по содержанию слова. Ну тут-то, “истосковавшись по настоящей работе”, я ткнула пальцем в явную неконгруэнтность и даже получила согласие И.А. в том, что агрессивный импульс существует. Это было уже кое-что, как и определение интроективного запрета на выражение протеста (цитирует Библию). И даже установлена связь этого запрета с низкой самооценкой — “протестовать имеют право только люди с высокой самооценкой”. Последнее выглядело типичной манипуляцией для сохранения статус-кво, что и подтвердилось “жалобным проективным блеянием” в конце сессии “меня отрезали от жизни”, “меня тащит назад” и т.п..
Под конец выражено первое и такое недовольство отношениями с мужем. Было бы славно, если бы он всегда был под рукой… Но пациентка понимает, что это невозможно, кто-то же должен приводить ребенка из садика. Недовольство касается того, что на ее приступы и страхи “он реагирует, как врач и советует взять себя в руки”. “Что-то тут есть от невротической потребности в слиянии, а что-то от здоровой потребности в любви и заботе” — размышляю я, но сделать пока ничего на могу — время сессии закончилось. Договариваемся обсудить эту проблему в следующий раз.
На следующей встрече недовольство мужем было ретрофлексировано и “забыто”, а И.А. начала ее с недовольства собой, как с матерью. Причитания по этому поводу перемежались косвенной агрессией в мой адрес. Я злилась вновь и вновь “натыкаясь на пустоту” внутри пациентки, ее растерянность и беспомощность. И постепенно начинала соображать, что все означенное (недовольство матерью, мной как матерью, собой, как матерью) уже имеет отношение к нашему контакту. А матерью ее мне быть явно не хотелось, этот беспомощный ребенок весом в 100 с лишним килограммов, был для меня пока неподъемным.
В связи с этим, акцент на наших отношениях в работе появился гораздо позже, а в то время, подустав от ее манипуляций, я попыталась, в течение нескольких сессий, сфокусировать внимание И.А. на различении реакции протеста (если что не нравится, так и скажите!) и ее выражении. Попутно, в подходящий момент, был материализован ЕЕ СТРАХ. Честно говоря, я была сильно разочарована. Это был не монстр, а серенький, лохматенький и грязненький страшок, сильно напоминающий ребенка (интересно, насколько он был похож на пасынка?), суетящийся, жмущийся к углу и, похоже, боящийся хозяйку. На меня же, ей-богу, он (И.А. на втором стуле) поглядывал с ненавистью.
Хозяйка страха была довольно спокойна и сама ничего с ним делать не захотела Моя провокация — “прогнать!”” была воспринята довольно вяло, а страх уходить не захотел. Проверка отношения к нему вызвала стереотипную реакцию:
-Боюсь.
-А как к нему еще относишься?
-?
-Какие чувства он еще вызывает?
-Жалость…удивление… И И.А. удивляется тому, что можно испытывать к нему что-либо, кроме страха.
Еще одна попытка увидеть свои страхи — рисунок. И.А. рисует “почему она не может выйти на улицу”. На бумаге поочередно появляются барьеры.
1 барьер — бабушки на скамейке перед подъездом. Могут унизить (и один раз уже жалеючи сказали:” Ты бы ночью гуляла что ли!”
2 барьер — угол дома, “там меня закружит и я упаду”.
3 барьер — улица, толпа, люди… Среди них есть такие, которые могут проявить агрессию. Все три барьера располагает внизу листа справа. Тут и лавочка, и угол дома, и улица и, очень крупно, страх приступа, состоящий из трех элементов: паники (черная извилистая линия), кружения (красным) и толчка (желтая краска). Особенно крупно — черные прямоугольники и квадраты — барьер, не дающий выходить и общаться с людьми. Свой дом, без двери, пациентка рисует в верхней части листа. Дом — желтый, без намека на опору парит в облаках.
Далее я предложила поработать со страхами, но при этом сделать это так, чтобы встречаться с ними было безопасно. И.А. не без удовольствия рисует красную дорожку в детство (рассказывает, попутно), к озеру, к деревенскому дому, к колодцу, из которого любила обливаться водой, к дереву, под которым сидела… После чего, подходит к первому барьеру и синей краской (вода) уничтожает бабушек на скамейке и толпу, которая так страшна своей возможностью унизить. Совершив, и вполне сознавая это, сей агрессивно-ресурсный акт, пациентка, как это ни странно, могла впоследствии ответить на очередную инсинуацию пенсионерок и была очень довольна. Эти колдовские, на первый взгляд, действия, а по сути — взаимодействие со своей проекцией, снизили интенсивность ее страхов (пока в фантазии — пациентка без содрогания представляла себя на улице, перед подъездом). Остался страх перед панической атакой со всеми ее компонентами, неприятные ощущения в прекардиальной области (“что-то переворачивается”). Сами же панические атаки, как таковые, исчезли.
Работая с рисунком, я стремилась стимулировать И.А. переживать состояние страха, как только оно появлялось, описывая, что с ней происходит и “не умирая от страха”. Кстати, дома во время одного из приступов гипертензии, сопровождавшегося тревогой, И.А. сумела пережить страх без таблеток и отметила с воодушевлением, что давление нормализовалось.
Продолжая “колдовать” с рисунком, я попросила пациентку зафиксировать на бумаге заветное желание (и, что не вырубить топором!), а также одну из реакций во время мысленной прогулки по улице, когда, пошатнувшись, она сказала себе : “Ну, толчок…” (в смысле — “Ну и что? Ничего особенного!”). Такая работа помогла пациентке справиться со страхом перед панической атакой поочередно с каждым из элементов (технологию см. Л.Н. Толстой “Рассказы для детей”, притча “Отец приказал сыновьям…”, 4 и 5 строчки).
Будучи зафиксированными на бумаге (прилипли?) страхи утратили свою силу с помощью водных ресурсов. В целом же , чем более знакомыми и конкретными становились страхи, тем меньше становилась их интенсивность и значимость для пациентки.
В дальнейших сессиях пациентка несколько раз уделяет время сравнению родительской и собственной семьи. Ее собственная семья, ее поведение в ней, по утверждению И.А., совершенно противоположны родительской и поведению матери. У нее все по-другому. Это сильно напоминает мне негативный комплекс — защита от матери. “Его лейтмотив — все, что угодно, но только не как мать… …Такая дочь знает все, чем она не хочет быть, однако ей, по большей части неведомо, что же она, собственно, помышляет про свою собственную судьбу.” (К. Юнг “Психологические аспекты архетипа матери” 1954). В родительской семье мать выполняла жесткую контролирующую функцию, определяя поведение детей (у пациентки есть брат). В собственной же семье И.А. несет по сути ту же функцию, но уже в “мягком” — манипулятивном варианте.
Она сама и ее болезнь — центральное связующее звено в семейных отношениях. У нее “все по-другому” — домработница, личный шофер, массажист и психотерапевт. И этим она управляет сама, чему я не раз была свидетелем. Пока она не имеет представления о своем сходстве с матерью и немного знает о различиях. Однако уровень сознавания себя у И.А. еще таков, что сфокусировать ее внимание на этом бесполезно. Да и тема звучит как-то “боком”. И я пытаюсь стимулировать переживание ею настоящего момента, различение собственных желаний.
Тема начинает звучать громче после звонка матери, которая на ее приглашение жить с ними (она жила в станице на юге), сказала, что приедет, если ее будут слушаться. Ну вот, опять жалобный голос: “Можно я Вам буду рассказывать, советоваться” Мне важно мнение еще одного человека”. По сути это скрытый вопрос о том, как лучше управлять матерью, ибо отказать ей И.А. трудно. И вновь, фокусирование на границе “Я” и “не-Я”, “мои желания — не мои желания”, выражение протеста, как формы агрессии. Впрочем, вяловато… И.А. не то, чтобы совсем не имеет желаний, она не имеет своих собственных, тех, которые бы противоречили желаниям других людей. Она часто устает от визитов в их однокомнатную квартиру подруг ее дочери, но никогда не говорит ей об этом. Ей слишком сложно находиться в оппозиции, требовать, она предпочитает убеждать.
Я явно чувствую, что в наших отношениях с И.А. появилось нечто, мешающее двигаться дальше. Пациентка часто “не понимает и не слышит”, о чем ее спрашивают, жалуется и ноет, не выполняет домашние задания, приходит в замешательство и косвенным образом ставит мне это в вину, ведет себя так, как будто бы меня нет… И.А. почти не смотрит на меня, лицо обиженное, обиду отрицает. После каждой сессии у нее болит голова, о чем она рассказывает мне в начале следующей. Я же злюсь и устаю, страдаю от ощущения своей неэффективности (ну что-то же можно с этим делать! Только что?), избегаю тревоги, структурирую ситуацию информацией и совсем не проявляюсь, как живой, со своими чувствами и потребностями, человек. Я почти в отчаянии. Куда же это я делась?
Наконец, случайная подсказка, как выйти к тому, что волнует меня в наших с пациенткой отношениях, обходя запрет на выражение агрессии. Это метафора, И.А. вдруг дает яркий образ: “Мы с Вами разговариваем, как через стеклянную дверь… И это точно между нами. С этим можно работать!
В тот же период прошу сувервизию у Олега Немиринского. Не могу понять двух моментов. Первое — как это пациентка делает так, что я с ней не конфронтирую. Не то, чтобы я бессильна (нет, я еще хорохорюсь!), но явно потеряла подвижность. Второе — насколько можно себе позволить удовлетворять потребность пациентки в “доброй маме”? Принципиально я не против, да что-то мешает. В конце супервизии вопрос стоит уже иным образом: “А, собственно, почему я не могут себе позволить пожалеть И.А.? “ Похоже, что ей действительно не хватает моей поддержки. Временами она напоминает мне несчастного обиженного ребенка… Может быть боюсь пожалеть? А чего? Зависимости, нытья… а дальше чего? А, ничего! Увижу эту зависимость ярко — разберемся! Надо только продолжить свой страх до конца и … появляются варианты работы…
(Сейчас я про это думаю так. Здесь важно поддерживать обе трансферентные тенденции. Негативный перенос (то, что пациентка привносит в наши отношения, то, как она организует переживание меня, в качестве еще одной авторитетной личности в ее жизни) и ту часть, которая скрыта и существует, как идеал, пример для терапевта, скрывающую в себе дефицитарную потребность. Сначала потребность в безопасности, что проявляется в ее стремлении уйти от неопределенности настоящего момента к определенности ее прошлого и сделать мои действия узнаваемыми и прогнозируемыми. Затем, потребность в любви и привязанности, в чем у нее нет убежденности, как по отношению к мужу и матери, так и ко мне.
Сомнения же мои и неуверенность относятся к тому моменту, насколько это можно поддерживать, чтобы напряжение оставалось рабочим. С другой стороны, пока не удовлетворена дефицитарная потребность в любви и привязанности не завершилась эта ситуация, откуда бы взяться потребности в автономии и независимости. Как я понимаю, должен пройти период символического доращивания невротического пациента для обретения им способности к самоподдержке и перехода на более высокий уровень личностного развития. У Е.Т. Соколовой это звучит так: “Спроецировав в Другого часть своего Я или “позаимствовав” ее от Другого, пациент становится с ним неразрывно связанным, поскольку только во взаимосвязи он способен компенсировать ущербность и самонедостаточность. Только относясь к Терапевту, не как к Другому, а как к части самого себя, как к своей собственности, овладевая и управляя им, как собой (а собой, как им), пограничная личность достигает, пусть иллюзорно, подтверждения чувства самоидентичности, утратив при этом чувство индивидуальности — своего своеобразия и автономности” (Е.Т. Соколова “Психотерапевтический контакт в работе пациентами, страдающими пограничными расстройствами). И этот период всегда есть! Вместе с тем, в кладовой моей памяти хранится идея совмещения реалистического и символического планов (О.В. Немиринский). С совмещением, признаюсь, пока сложно… но я оптимистично смотрю в будущее!
И это сразу проявилось в терапевтических отношениях. И, хотя И.А. пока не рискует проявить свои чувства ко мне напрямую (с матерью это никогда не было возможным), фантазии же про наши отношения стали более свободными и в них появился намек на сотрудничество: “по улице, вдоль высоких домов мы идем куда-то вместе”. При этом мне удается конфронтировать с ее манипулятивным поведением — оправданиями и задабриваниями, молчаливыми притязаниями и испрашиванием разрешения, замаскированными требованиями и утверждениями, имеющими внешний вид вопросов. Пустота и замешательство как будто бы становятся более редкими.
К этому моменту И.А. рапортует, что уже прямо предъявляет свой протест близким — мужу и дочери. Правда, называет это ростом раздражительности, но при этот тут же вспоминает, что исчезли панические приступы и пошатывание. Боится, что они вдруг появятся.
И, наконец, в сессии напрямую говорит о своем недовольстве мужем. Она не уверена в том, как он к ней относится, ведь он разговаривает по телефону со своей бывшей женой и ее родственниками (И.А. все еще боится, что он к ней вернется). Все финансовые вопросы в семье решает он, у И.А. нет права на голос — деньги зарабатываются не ей. От него трудно добиться ясоного ответа, он уклончив.
Именно в этой сессии пациентку постигает инсайт — она сама произнесла эти слова: “Наверное, я все-таки не хочу выходить на улицу”. А следующая, закономерно, началась с амнезии этих слов (и так не раз и не два в наших встречах) и ухудшения общего состояния. И.А. вновь несчастна, “давление скачет”… В то же время, косвенным образом (словами подруги) говорит об улучшении состояния в целом.
И далее, уже без экивоков, снова про мужа: он “не понимает ее”, “его не устраивает ее болезнь”, “его раздражает, когда она плохо себя чувствует”. Между тем, С.Н. ни разу не сказал ей об этом напрямик. Ключевым вопросом терапии стал (несколько иезуитский, по моему) вопрос — “Если бы Вы были полностью здоровы и ходили бы улицам спокойно, что изменилось бы в Ваших семейных отношениях?” Ответ пациентки был неожиданным даже для нее:
-Я бы развелась с мужем… И далее в быстром темпе и очень конгруэнтно:
-Он не выполняет договоров… Он все решает сам… Он не дает денег… Он решает, что для меня купить, а что нет… Он не реагирует на крик… Я проваливаюсь, как в вату…
Затем, позволив себе эту агрессию, И.А., по обыкновению, (агрессия — вина — агрессия — вина), откатывается назад:
-Он хороший, он зарабатывает деньги для семьи, он замечательный отец…
Здесь я делаю, довольно рискованную интерпретацию по поводу того, как пациентка удерживает себя от развода (по сути, акцентируя внимание на ее же словах) с помощью навязчивых страхов и соматических проявлений. И.А., впервые, воспринимает эти слова без обычной обиды (а я делаю банальный, но глубоко прочувствованный вывод о пользе своевременных и вреде несвоевременных интерпретаций).
Теперь не страхи, а отношения в семье, становятся главной (и, мне кажется, “настоящей”) фигурой терапии и И.А. переформулирует запрос на “решение семейной проблемы”. “Маленькая месть” пациентки — “ужастик” из жизни современной молодежи в конце сессии (подвала, изнасилования, наркотики, пытки). “У Вас ведь тоже есть дочь?” — невинно спрашивает пациентка.
В семье, кажется, происходят какие-то подвижки… Даже С.Н., везущий меня на собственной “Волге” к И.А. рассказывает мне страшилки. Где была какая авария, что от кого осталось, а также где, кого и как зарезали ножиком… Сижу на заднем сиденье и соображаю, где в машине наиболее безопасное место. Мою книжку по психиатрии обещал отдать уже раз пять , причем сам, я не напоминала. Ранее за ним этого не наблюдалось… И, вообще, размышляю о нем, экспериментирую… В ответ, действительно, ни”да”, ни “нет”, ответы мягки, уклончивы… Собственное ощущение — в этого человека проваливаешься… или проходишь сквозь… Вспоминаю слова И.А. — “С.Н. воспитывали три женщины и вот… воспитали…”
20 сессия — типичный краткосрочный курс психотерапии закончен. Итак, наши приобретения… Переезд на новую квартиру. И.А. руководит, циркулирует из подъезда в квартиру и обратно, остается во дворе одна. Приступов нет, артериальное давление лишь один раз поднялось до 140 на 100. И.А. научилась справляться с тревогой и катастрофическими мыслями без препаратов за 2-3 минуты.
Продолжает тему отношения с мужем. Проблему видит в том, что не уверена в чувствах С.Н. (я возвращаю проекцию), да и в своих тоже. Пациентка вспоминает, что не знает любви. Фокусируясь на потребности — от С.Н. хочет внимания и заботы. Пытается добиться этого манипулятивным путем — акцентирую внимание на прямом выражении потребности, благо и по отношению ко мне таких возможностей порядочно. Конфронтирую с постоянной склонностью И.А. к навязчивым оправданиям (словно ребенок перед матерью или перед собой). “ Есть у меня в голове контролер”, — говорит пациентка.
Перед последними сессиями у меня возникает четкое ощущение, что меня надувают. Звонки, переносы сессий, договоры и их невыполнение, объективные причины — грипп, украли колеса… У С.Н. неприятности на работе. Проверить невозможно… да и какая разница… жду, что будет дальше, чертыхаясь…
22 сессия — полгода работы. Утренний звонок, слабый голос И.А. : “Плохо… тревога…неприятные ощущения в предсердечной области… нет опоры… Что там у них произошло? Вначале сессии — вдохновенный рассказ о заботливом муже сестры и сравнивание со своим со слезами, злостью в голосе. Выражение лица — детское, обиженное. Обращаю внимание на слезы, слабый голос, символический смысл мольбы — “будь моим папой (мамой?)…” Да он и сам без него вырос… задумчиво вспоминает И.А.
Впервые в наших отношениях я позволяю себе выразить раздражение из-за срыва сессий. Пациентка пугается, а я задумываюсь, каким образом выразила — вроде бы от себя. Скорее, контрпереносной здесь была бы реакция не выражать раздражение в ответ на косвенное предъявление агрессии со стороны “этой семейки”, а это для И.А. не ново. С.Н. так и делает… Все чаще и чаще отказываюсь отвечать на манипуляции, предъявляю собственные реакции и, с полным правом, хочу прямого предъявления чувств и желаний.
Но вот ситуация обостряется — приезжает мать. И сразу пытается установить привычный стиль отношений — приказы, шантаж (рассказ соседям о плохой дочери), крик. В ее присутствии “защита от матери” превращается в пшик. Две грозных матери на одну пациентку — это уж лишку и, поэтому, бдительно слежу за своими реакциями. И.А., по обыкновению, регрессирует: “Не бросайте меня!”. “Я здесь, с Вами и вправе рассчитывать на Вашу взрослую реакцию”, — отвечаю в двух планах, символическом и реалистическом. И И.А. говорит про этот простой способ сказать “нет”, там где посчитает нужным… И готова это делать. Я ей верю — в этот раз она достаточно энергетична. Хорошо бы поработать и с “да”, но “нет!” — пока актуальней…
Через неделю — запланированный торжественный выход на улицу. И.А. воспринимает это довольно спокойно. Стимулирую контакт со страхом. Гуляем около дома … идет отдельно… оглядывается, возвращается и радостно говорит, что вполне терпимо. Смотрит вверх на дом и чувствует сильный страх. А я почему-то вспоминаю ее слова: “Я смотрю на нее (мать) снизу вверх…”. И … классический пример из зоопсихологии, когда утенок (или цыпленок, не помню) принимает за мать любой крупный, находящийся в его поле зрения, объект… Бредятина, а интересно! Кстати, Ирине Андреевне в этом случае помогло сознавание ног и позвоночника — голова перестала кружиться и страх ушел…
Сессия эта (24-я) оказалась не то, чтобы последней. И.А. звонит мне периодически и говорит, что собирается работать дальше… Поживем — увидим… Пока же она выходит из дома на улицу, выезжала летом на турбазу. Дома, по-прежнему, не одна (с матерью). Панических приступов и сильного (парализующего) страха нет, с тревогой справляется, и все чаще без таблеток. Матери четко говорит “нет”, когда та нарушает ее границу.
И это, пожалуй, то самый момент, когда состояние улучшилось, первоначальный запрос удовлетворен, а проблемы стали только рельефнее. Что же, позвонит — поработаем! Про любовь-то мы еще не говорили ( см. эпиграф №2)…
И.Д. Булюбаш
З. Фрейдинский, “Воспоминания о вторичной выгоде”, 1896
… Уж если вцепится во что ручонкой, так бывалоча отдираешь-отдираешь, утомисси весь, а с нее как с гуся вода… Держит свою погремушку, смотрит на тебя своими ясными очами и так радостно-светло говорит: “Не дам!”
А. Лоуэн, “Физическая динамика структуры характера” 1996
При таком характере можно говорить о страхе повторных переживаний детских страданий, бессознательной ненависти, подавленной любви.