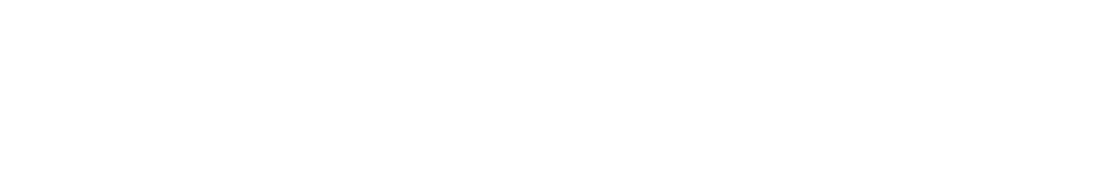Тольятти
Тольятти — странный город. Наверное, он мне за что-то достался в жизни. За что-то не очень хорошее, потому что за хорошее должны какие-то другие города доставаться, с какими-нибудь красивыми домами, особенными улицами, или хотя бы с парой деревянных полуразвалившихся историчских избушек. И даже ладно, пусть там никто особенный не жил, а-то я может, и не помню, как он «особенный» выглядит, но посмотришь на такую избушку, и целая жизнь куда-то назад разворачивается. А тут не город — орнамент, параллели проспектов, меридианы улиц.
- Надо найти телефон и позвонить организаторше — говорит замерзшая, но сохраняющая представление о том, что нужно делать, Ирка Булюбаш.
Мы с нею впервые приехали в Тольятти работать. Это ты едешь зимой в душном поезде от Нижнего до Сызрани. В Сызрань поезд приходит то ли в 4, то ли в 5 утра. Находишь грязный автовокзал. Это такое строение с высокими потолками и грязным полом. Сесть не на что, наверное, нужно стоять и смотреть вверх. Бесприютный дом автобусных кассирш. Они целыми днями сидят там за окошками и продают билеты. А вокруг этого дома что-то вроде оставленного рынка. Утром, когда продавцов нет, покупателей нет, а есть только мусор, разгоняемый ветром. Ну, это собственно, он в 4-5 утра — оставленный, потом, наверное, все проснутся, но нас с Ириной уже здесь не будет. Интересно, даже в 4-5 утра на холодном сызранском автовокзале пахнет рыбой, соленой рыбой. Потом мы ждем первого автобуса и едем в Тольятти. Как же люди здесь живут? Вот так посреди носимых ветром бумажек и запаха рыбы… А ведь тоже целые жизни здесь проходили, и как-то ведь были люди счастливы. Холодный серо-белый рассвет, мы с Иркой едем в автобусе посреди каких-то непонятных полей, и хочется как в детстве спрятаться в «домик».
Ночь, холод, кто сказал, что это утро? То, что написано на будильнике — не в счет. Можно сравнить все часы в доме, но они все как будто сговорились, и все — против. Против нормального человеческого ритма жизни, против меня, против жизни на земле… И можно только сомнамбулически подняться «на автомате», одеться и выйти в эту ночь, которую кто-то решил считать утром. И перед выходом я заворачивалась в шарф. Шарф был моим забралом. Лучше бы, конечно, опустить туда и глаза, но тогда не будет видно дорогу, и глаза поднимаются над краем шарфа ровно на такое колическво милиметров, чтобы не врезаться во что-нибудь, и чтобы ресницы не примерзли: из-под шарфа к ним поднимается пар дыхания и тут же превращается в иней, не так-то просто мограть заиндевелыми ресницами…
И в автобусе от Сызрани до Тольятти я поднимаю шарф — и вот уже есть «домик».
- Во сколько мы сегодня начинаем, Ирка? — спрашиваю я.
— Договаривались в 11, как всегда. Посмотрим, как там все сложится.
Теперь можно дремать под шарфом. Хорошо, когда в серо-холодном утре посреди не то полей, не то степей, рядом есть человек, который беспокоится о работе еще больше, чем ты. С Иркой, наверное, можно было бы отправляться на освоение новых земель, золотая лихорадка и все такое. Все параллели и меридианы были бы посчитаны, деньги надежно спрятаны и не проиграны… Только она бы туда не поехала. Во-первых, потому что там вряд ли понадобилась бы гештальттерапия, во-вторых, потому что слишком рисковано, а в-третьих, что она вообще там забыла. А в Тольятти вот мы едем.
- Надо найти телефон и позвонить организаторше.
И потом заспанная «организаторша» (ей ведь тоже зачем-то сдалась вся эта история с немецким названием «гештальт») бежит к нам, отводит в квартиру, где мы будем жить 4 дня, пока идет группа. Группа — целая жизнь за 4 дня. Люди встречаются и сталкиваются, и не потому что не поделили найденного золота и не потому, что собираются вместе провести остаток жизни, нет, через 4 дня они разойдутся и до следующей группы могут и не встретиться вовсе. Просто они люди и хотят хоть чуть-чуть понимать свою жизнь. И тут ты оказываешься в эпицентре пересекающихся линий страстей, желаний… Из банальнейших историй, человеческой глупости и душевной лени вдруг начинает прорастать что-то большее, какая-то новая история, которая вдруг все меняет, наполняет новым смыслом, и как будто ты тоже как-то ко всему этому причастен. До группы 3 часа, но с Иркой не поспишь, пусть ты даже всю ночь в этом душном поезде промучился. Так и быть — принять душ, так и быть — позавтракать, а дальше — обсуждать группу. Можно придумать 15 вариантов начала, и все равно будет нужно 16-е, потому что все равно не понятно, кто они, люди с которыми ты еще не встречался, и что им нужно сегодня.
- Ирка, давай не будем выходить за час до начала! Нам же 20 минут добираться!
— А осмотреться? Кроме того, не 20, а 25. Ладно, так и быть, выйдем за 40.
В группе на 25 женщин один мужчина, что тоже очень характерно. Кому интересно разбираться с этой жизнью? А кому, правда, интересно разбираться с этой жизнью? Вам интересно? Мне — иногда, не очень часто и по большой необходимости, а еще лучше — не со своей жизнью, а с чьей-нибудь еще, хотя это тут же становится частью моей жизни. Раньше казалось, что нужно, а главное, можно, как-то со своей жизнью сначала разобраться, а потом… Я же психолог, вы же понимаете. И в какие-то моменты даже вдруг что-то такое мерещилось, как будто бы даже не просто понятное, а механизм самого понимания… Ох, и приятные же, я вам скажу, моменты. Как будто бы прямо физически чувствуешь, как жизнь в тебе движется и как ты вместе с нею… и не страшно совсем ни дураком оказаться, ни ошибиться, потому что что уж тут ошибаться, когда сама жизнь внутри движется. Кажется, я как-то сбивчиво объясняю? Можно, наверно, с любовью сравнить или с беременностью такой радостной, когда жизнь внутри тебя и ты уже позволила ей быть, и себе быть. Вот я и запнулась. Как-то я раньше это место лучше понимала. А, нет, поняла, это не про беременность, которая есть продолжение каких-то отношений двух людей или предзнаменование каких-то еще других отношений еще каких-то людей, а просто про само состояние. Вот представляете, это когда вы не думаете о том, что было, и о том, что будет, о том, как, на что и с кем вы будете жить и что вообще делать, когда вас не тошнит, не болит, голова не кружится и пить не хочется. А просто вы чувствуете жизнь внутри себя неоспоримо и явственно. Представили? Так вот, это почти невозможно. Непереносимо в своей бесконтрольной текучести. Можете, конечно, сказать, что уж больно пафосно. Если уж так невозможно, то как же все беременные ходят? И ничего себе — рожают. Так вот я же как раз не про роды (во всяком случае — пока)и не про детей, а, может быть, про редкую способность не конролировать, но сознавать и чувствовать.
Потом почти до хрипоты обсуждаем, что же там было, на группе, где были основные темы, основные силы.
- Может, завтра после лекционного куска предложим им в какой-нибудь образной форме представить происходящее на группе? — говорит Ирка.
— Нет, после лекции они «засохшие», а потом, — с какой стати? Только если это «выплывет из процесса».
— Вот я ценю твои идеи, а мои — сразу вызывают твое сопротивление, мне это неприятно.
— Да…значит, конкурируем…
А что поделать? Немножко поругаться, помириться и дальше — опять к Иркиным ежедневным описаниям работы, надо же еще понять, как все это, все то, что с нами происходит, связано с ситуацией в группе.
А потом, после окончания группы, мы лежали с Иркой на диване и смотрели какой-то австралийский фильм про юношу, который хотел сыграть третий концерт Рахманинова. И папа его сильно хотел, чтобы его сын сыграл этот концерт. И все так сошлось и перевернулось, концерт оказался больше и сильнее, он свел юношу с ума, но как-то не страшно, может, потому что музыка с ним осталась? А может, просто мне было хорошо. Мы ведь сделали это! Провели целую группу, большую и настоящую…нашу первую группу. Ирке, кажется, тоже было хорошо. Она переживала за юношу и не одобряла отца, она даже, по-моему, думала, что отец больше виноват, чем Рахманинов со своим концертом. За окном был ночной заснеженный Тольятти, такой какой-то большой, неуютный, неуклюжий, как будто бы всеми своими домами противящийся всей этой романтике.
Тольятти, особенный город. Второй раз я туда летела. Летела работать в паре с любимым учителем. Тоже в первый раз.
- Олег, чего бы ты хотел от меня на группе?
— А-м-э…
В те времена Большой О. просто физически не мог отвечать на вопросы, в которых не чувствовал смысла. Что еще он мог мне сказать, чтобы у меня хватило окаянства оставаться на группе собой, видеть то, что происходит, слушать его и по возможности спокойно работать? Вот такая простая и разнообразная задача. Все слова либо были уже сказаны, либо подействовали бы только в одну какую-нибудь сторону, разнообразие задачи могло похериться. И Большой О. скорее мычал, чем говорил что-то вразумительное. Сейчас он стал более терпим к вопросам, ответы на которые вряд ли могут что-то прибавить к тому, о чем вопрошающий уже и так сильно догадывается. Летим. У меня книжка не то Перлза, не то Польстеров про гештальттерапию, я пытаюсь «надышаться перед смертью», но закладка — моя фотка трехлетней давности, там лето, усадьба приморского поселка, и я в общем неплохо там выгляжу.
- Олег, смотри, какая я была до занятий психотерапией.
— Да…совсем другое лицо, выражение другое.
— Какое?
— Более свободное, расслабленное.
«Вот гад, гад, гад!» Самым невозможным для меня в этот момент было — расслабиться, это звучало глумливо и точно. Может, поспать, во сне лицо как-то расслабляется, да и вообще, могу же я не отвечать за свое спящее лицо. Но спать по дороге в Тольятти (там лететь-то без году неделя), да еще когда спать совсем не хочется — совсем пижонство.
- Олег, в каком качестве я тебе нужна на группе?
— А-м-э…ты же сама все знаешь.
Прилетаем. В Тольятти весна, улицы как будто еще шире стали, растаявший снег течет по улицам, а мне и не дышится и не слышится. Едем в троллейбусе на группу.
- Олег, как бы я тебе могла пригодиться на группе?
— Сиди и молчи! — орет он на весь троллейбус.
Все! Все рухнуло, что могло и не могло. Ничего не осталось кроме меня, того, что я могу, и на что решаюсь, его и группы, которую он так и так проведет классно. А удастся ли мне поплясать на этом празнике жизни — это уж поглядим. В этом месте я, наверное, могла бы многое сказать. И все это звучало бы как тост за котерапию, но я-таки не буду, потому что кто знает это счастье — поймет меня, а кто не знает…тому потом можно будет позавидовать, потому что если он найдет себе правильного котерапевта, он несомненно будет счастлив и вдохновлен.
Да, но вернемся к Тольятти. Тогда мы впервые перешли работать из Нового города в Старый. Вот вы знаете, что такое Новый город, что такое — Старый? Вы думаете, что это два района одного города, один поновее, другой постарше? Я тоже так думала. Но Тольятти, он на то и носит имя какого-то итальянского…революционера, что там все не как у людей. Или вот где-нибудь в Иркутске или в Нижнем Новгороде живет человек в каком-нибудь микрорайоне «Солнечный», и понадобилось ему в центр по делам, он говорит:
- Я в город поехал. В институт зайду, хлеба куплю и вернусь.
Он же не из деревни едет и не с полустанка какого-нибудь, он же в том же городе живет и в него и едет. Может, это память какая-то про те времена, когда все эти микрорайоны отдельными деревнями были, или просто память про другое распределение пространства. Так вот в Тольятти все это «новое» и «старое» как будто бы совсем не про память, это какая-то другая история. Тольятти — это русская Америка в отдельно взятом городе, со своей новизной и памятью ненадолго, своими прериями и законом силы. Они только свои убийства линчеванием не называют, но не в названии же дело. Тольятти — не город, Тольятти — орнамент из геометрически пересекающихся улиц и улочек. Когда-то на этом месте был нормальный город — Ставрополь на Волге. Но потом понадобилась гидроэлектростанция, и город затопили, а на берегу нового водохранилища построили новый город и назвали Тольятти, в честь того самого итальянца-революционера. Сама по себе история сюрная. Города же так просто не рождаются и не умирают, да еще почти на одном и том же месте. Город же по своим каким-то законам развивается, а тут… Это как назвать девочку Даздрапермой. Вроде как жизнь целой страны, которая решила, что может сама себя строить, врывается через форточку и ворошит пеленки:»Да здравствует, мол, первое мая!» Но ведь тем же ветром драконья сперма глупости наводит полный хаос в еще не наступившей жизни. Как жить-то с таким именем?
Тольятти начал сам по себе во мне проявляться лицами людей. Так, может быть, всегда происходит, во всяком случае, у меня. Я, наверное, неправильный турист, ни один даже самый прекрасный город не будет мне интересен, если я не смогу его «заселить», «обжить». Должны во всем этом звучать человеческие голоса, человеческие истории, и тогда… силы появляются, а так — хоть ложись и спи. С другой стороны, вот какой-нибудь Кельнский собор, который 600 лет строили и сейчас еще продолжают, какие там могут быть истории, они ведь все несоразмерны на первый взгляд. Там одна большая история, про то, как люди что-то строят, умирают, а их дети продолжают, и так все это дело переходит из поколения-в поколение. Они не видят окончания, знают, что умрут, не увидев, но продолжают строить. Не разрушать от досады, что им окончательной красоты не достанется или там еще чего-нибудь, а продолжать строить. В этом есть для меня какая-то человеческая история, и тем больше она меня трогает, чем больше вызывает простых сомнений. Я должна как-то выйти за пределы своих сегодняшних представлений о том, как люди думают и чувствуют, я должна как-то расшириться душой. Чтобы так что-то строить, мне нужно очень ценить жизнь до себя и после себя, мне нужно во все это очень верить, а кроме того, вообще как-то «распупонить» свою жизнь, т.е. перестать быть пупом собственной вселенной, а это уж совсем нелегко. Ясно, что они жили с Богом, это, видно, и поколения их связывало… Ладно, я сейчас не про это, я собственно просто говорю, что не умею даже на самые потрясающие вещи просто так смотреть, мне все равно нужно что-то человеческое искать.
И в Тольятти эти «человеческие истории» во-первых, приезжали вместе со мной, с Иркой Булюбаш, с Олегом, а потом еще и лица тех, к кому мы приезжали, стали для меня проявляться, как на фотографиях, когда печатаешь. Собственно, сейчас ведь и не печатаешь, а раньше вот папенька закрывался в ванной, устраивал себе там лабораторию, и утром наша радостная жизнь смотрела черно-белыми тенями с еще теплого после глянцевателя картона.
- Нет, чтобы вот это я, за свои деньги, в такой конуре жила! Надо было нормально работать организаторам, любая моя девочка на фирме сделала бы эту работу лучше. Отдайте мои деньги, я сама найду себе гостиницу!
Стоит посреди летней болгарской Албены маленькая женщина с большими очками и короткой стрижкой и кричит. Кричит как будто даже немножко в нос, и крик такой неприятный, смесь капризного ребенка и скандальной бабы. Кто бы знал, сколько силы в этой маленькой женщине, кто бы знал, что она преуспеваюший бизнесмен, акула, волчица! Вы думаете, она добьется своего? Или вы думаете, что она не добьется своего? Интересно, что, что бы вы ни думали, это будет неправильно. Она обязательно добьется, но будет ли это «свое» именно тем, чего она хотела? Она поселится в соседней гостинице и будет гордо и одиноко туда удаляться по вечерам. Она умеет добиваться, использовать ситуацию, деньги, людей, и при этом жутко боится быть использованной. Этот страх переходит иногда просто в паранойю и отравляет ей почти все человеческие отношения. Она знает, что такое корысть, и страстно ищет бескорыстия, хотя сама она, наверное, так никогда бы не сказала о себе. Но как только начинает маячить что-то отдаленно намекающее на бескорыстное отношение, она обрушивает такой шквал капризно-скандальных сомнений, что легче отступиться и оставить ее спокойно оплакивать свои обиды. Парадоксальное существо! Вы можете себе представить шефа и владельца фирмы, который занимается с сотрудниками психотерапией? При чем не гипнотизирует, чтобы хорошо работали, а… углубляется в душевные переживания. Это какое-то вечное русское утопическое стремление к красоте, вот если немножко топором поколотить по основанию сука, на котором сижу, то ровнее будет! Или еще. Вы можете себе представить богатую, занятую женщину, которая в аптеках развешивает объявления, о том, что может «помочь залечить душевные раны»? А я теперь могу представить такую женщину, она будет маленькая, жилистая, с пластикой подростка, готового подраться, если что, в больших очках и с короткой стрижкой.
Или, наоборот, представьте себе юную и вполне романтичную красавицу. Высокую, с миндальными черными глазами и желанием помогать людям. У нее много сил и ясные представления о справедливости. Она недавно замужем и уже ждет ребенка. Ее муж — чуть ли не одноклассник, он тоже молод, пытается не говорить много в обществе женщин, и гордится своей красавицей. Нет, эту историю лучше представлять не в Тольятти, она опасна для этого города. Юноша захочет, чтобы его молодая семья хорошо жила, вляпается в «жигулевский бизнес» и пропадет, без следа и вести.
Или другая романтическая история. О большой любви, начиная со школы. Они уже там нашли друг друга и все знали, что они — вместе. Сразу после школы они поженились и дальше росли вместе, кончали институты, рожали детей. Троих детей, между прочим. Он работал и куда-то пробивался, добивался, защищался, поднимался. Она помогала, рожала, тоже училась. И то, что оставалось неизменным — это их история о большой любви, начиная со школы. Потом пришло время «бизнеса», у него все получилось, появились деньги, изменилась жизнь. Сауны, секретарша… Все как будто совсем банально. Она мучилась ревностью, худела, чтобы «выглядеть», снова училась, тоже открывала свое дело, хотела 4-го ребенка. Им тяжело вместе и они не могут расстаться, они отталкивают друг друга и не пускают, уходят из дома и возвращаются в одну и ту же постель. Что держит их в жизни, которая совсем-совсем поменялась? Ведь не старая история о большой школьной любви?
Поезд отходит от «Жигулеского моря». А может, мы не успеем? Может, нужно ехать от самого Тольятти. Нет, это безумие, сначала два часа ехать до вокзала, потом еще час на поезде от вокзала до этого самого «Жигулевского моря». Что тут долго говорить, едем от «Жигулевского моря». Это маленькая грязная станция с намеками на какие-то вокзальные закоулки. Но никаких закоулков нет, а есть одна большая комната, где по стенкам стоят вокзальные фанерные кресла и сидят люди рядом с сумками и чемоданами. Лица в основном какие-то «местные», вот если человек всю свою жизнь проводит здесь, она, эта жизнь ведь совсем какая-то другая получается, совсем отличная от моей, например. Напротив меня бабка в коричневом платке, темносером пальто и сапогах советского пошива. Вот то, как у нее платок у висков заложен, как пальто застегнуто и вообще как ее ноги в этих сапогах стоят — это все уже само по себе — другая жизнь. Вот я если так платок надену, точно по-другому себя чувствовать буду, в той другой «бабкиной» жизни у вещей иное назначение и свойства. Они должны быть теплыми и крепкими, они должны «долго носиться», вот собственно, и все. В моей жизни тоже вроде, хорошо было бы, если бы «долго носилось», но уже все как-то по-другому, я и недолго-то не донашиваю, все что-то поменять хочу. На станции как-то много мужчин, и моему глазу это странно, для меня Тольятти — город женщин, мужчины существуют в каком-то мифическом варианте, то ли воюют, то ли пищу добывают, а здесь — на тебе, куда-то едут. В Москву едут, как и я. Подходит поезд, в моем купе — две молодые женщины, обе — Лены. Одна из них — в больших очках, ест нечто отдаленно напоминающее шашлык с картонной тарелки, мизинцы отставлены в стороны и губы смущенно поджаты. Я не снимаю полушубок, они тоже одеты — в купе колотун. А женщина ест шашлык и запивает пивом. Шашлык холодный и вообще как-то ей все время неловко.
- Вы до самой Москвы? — так всегда начинаются поездные разговоры. Я вроде, не хочу разговаривать, у меня с собой несколько книг, которые особенно хорошо в поездах читать, и вообще — я устала разговаривать с людьми. Еще только три часа дня, но уже начинает темнеть. Зима все-таки. За окном серо-розовое небо и заснеженные холмы. Привыкает глаз с детства видеть зимой этот снег, и если его нет — то глазу холодно и как-то неприкаяно. Вот ведь и понятно, что там под снегом много всякого, оставшегося от осенней жизни, но теперь оно покрыто ровным белым слоем и как будто этот снег успокаивает и спасает от какой-то суеты. Там, за окном, он сначала становится темно-синим, потом к этой синеве все больше примешивается серый, уходящий в ночь. Я не могу оторваться от этих холмов и заснеженных деревьев, даже периодические свалки как-то во все это вписываются. Девушки оказываются ландшафтными дизайнерами, и с ними можно говорить про все это за окном, ничего не объясняя, почему вдруг меня так снег притягивает и что это я по нормальным свалкам соскучилась. У второй Лены (той, что без шашлыка) копна кудрявых рыжих волос, заплетенных в две короткие косички, на ней ботинки на толстой подошве, как потом выясняется — она донашивает их за дочерью и очень любит за удобство. Дочь она, конечно, тоже очень любит, а к вещам привыкает, прикипает и потом трудно «перелазит» в другие. Двоих дочерей она растит сама, вернее, они просто вместе живут, дочери уже взрослые, она — молодая, они живут… Наверное, даже в каком-то общежитии. У нее поразительные волосы, бронзово-рыжие, очень густые и кудрявые, такие на старых картинах у какой-нибудь Юдифи или Рахили могли быть. Но она не Рахиль, а — Лена, вернее, в ней смешались Рахиль и женщина с гитарой и рюкзаком у походного костра. В ней продолжает звучать походная романтика, в том, как она рассказывает про Алтай, про какие-то геологические партии, но звучит она как-то не фатально, видно, что многое в ее жизни есть и «не про это».
- Здесь вообще удивительные места. К нам ведь регулярно все эти еги и остальные всякие съезжаются. У нас какой-то энергетический центр, таких только три по всему миру.
— Это где у вас такое?
— На берегу водохранилища, вот эти дачи проехать, и потом гора, вот за этой как раз горой.
— Это то водохранилище, где старый город затоплен?
— Да там.
— Я слышала, что там что-то такое видят люди периодически.
— Да, обычно по весне, где-нибудь март-апрель, — говорит рыженькая.
— Нет, ближе к лету, в мае, я слышала, — поправляет ее вторая.
— Я сама не видела, но много наших рассказывали. То ли это природное такое явление, то ли что. Там целые картины движущиеся люди над водой видят. Дома и церкви старого города, людей в старинных одеждах. И очень часто какие-то битвы, сражения, то есть люди все эти бьются друг с другом.
— Я тоже сама не видела, — говорит вторая, — но даже передача такая по телевизору была, сразу после документального фильма про жигулевскую войну, помнишь?
— Про жигулевскую войну? Там тоже кто-то с кем-то бьется?
— Да, стреляют, взрывают, одна мафия с другой борется, но больше просто люди пропадают, и никто уже не знает, где они и что с ними.
— Да, я слышала, страшновато тут у вас.
— Да нет, люди ко всему привыкают, хотя детей, конечно, так просто не отпускают, в школу — из школы.
— А на водохранилище этом, когда шлюзы спускают, — продолжает рыженькая, — крест старой церкви над водой появляется. Конечно, целый город потопить — это все так просто не проходит. Уже теперь кто побогаче да поумнее на берегу часовни стали строить, прощение вымаливать.
— Даст Бог, может, правда что-то…- я спотыкаюсь о слово «изменится», я, действительно, хочу, чтобы что-то у них изменилось, чтобы не было ничего такого, что так буднично называют «войной», со своими убитыми и пропавшими без вести. Но уже так много здесь изменялось, даже целый город взяли и передвинули, переименовали, теперь вот — часовни ставят, а может, для того и меняли, чтобы теперь часовни ставить, не знаю…- установится, — мне легче сказать.
Мы подъезжаем к Сызрани. Уже совсем темно.
- Сейчас купим рыбы и пива!
— Какая рыба? Там же ночь, неужели в такую темень и холод кто-то там еще что-то продает?
— Конечно! К поездам они всегда рыбу выносят, да еще какую! Я такой рыбы больше нигде не ела!
— А выбирать ты умеешь? Жабры там — мабры и все такое?
— Ну, выбирали у нас, конечно, всегда мужчины, но тут трудно совсем уж так ошибиться. У чихони нужно, чтобы шкурка такая блестящая была, и чтобы она не слишком сухая и не слишком жидкая на ощупь.
— Ну, ты скажешь тоже, что у рыбы, шкура что ли.
— Я же не говорю — шкура, но там не чешуя, там кожица такая.
— Ладно, пошли.
Мы выходим на ночной сызранский перрон, это правда — какая-то рыбная сказка. Холод, ночь, а тут эти вечные бабки со связками вяленой, соленой, сушеной рыбы, с вареными красными раками, коробками с пивом. Чихонь висит первобытным ожерельем у кого на веревке, у кого на толстой железной проволоке. Она действительно поблескивает прямо серебром каким-то и кажется что ее вот только сейчас, только к твоему поезду закончили солить и вялить, откуда-то сняли и сюда ночью принесли. Хочется купить ее всю, приходится как-то себя останавливать, представлять, как будет всю ночь пахнуть в купе, как с нею завтра ехать в метро, если не удасться все доесть и т.д. Но это все — насилие над воображением, а потому штук 10 чихоней я все-таки покупаю, девушки покупают пиво — и мы продолжаем праздновать эту нашу единственную жизнь от Тольятти до Москвы.
- Надо найти телефон и позвонить организаторше — говорит замерзшая, но сохраняющая представление о том, что нужно делать, Ирка Булюбаш.
Мы с нею впервые приехали в Тольятти работать. Это ты едешь зимой в душном поезде от Нижнего до Сызрани. В Сызрань поезд приходит то ли в 4, то ли в 5 утра. Находишь грязный автовокзал. Это такое строение с высокими потолками и грязным полом. Сесть не на что, наверное, нужно стоять и смотреть вверх. Бесприютный дом автобусных кассирш. Они целыми днями сидят там за окошками и продают билеты. А вокруг этого дома что-то вроде оставленного рынка. Утром, когда продавцов нет, покупателей нет, а есть только мусор, разгоняемый ветром. Ну, это собственно, он в 4-5 утра — оставленный, потом, наверное, все проснутся, но нас с Ириной уже здесь не будет. Интересно, даже в 4-5 утра на холодном сызранском автовокзале пахнет рыбой, соленой рыбой. Потом мы ждем первого автобуса и едем в Тольятти. Как же люди здесь живут? Вот так посреди носимых ветром бумажек и запаха рыбы… А ведь тоже целые жизни здесь проходили, и как-то ведь были люди счастливы. Холодный серо-белый рассвет, мы с Иркой едем в автобусе посреди каких-то непонятных полей, и хочется как в детстве спрятаться в «домик».
Ночь, холод, кто сказал, что это утро? То, что написано на будильнике — не в счет. Можно сравнить все часы в доме, но они все как будто сговорились, и все — против. Против нормального человеческого ритма жизни, против меня, против жизни на земле… И можно только сомнамбулически подняться «на автомате», одеться и выйти в эту ночь, которую кто-то решил считать утром. И перед выходом я заворачивалась в шарф. Шарф был моим забралом. Лучше бы, конечно, опустить туда и глаза, но тогда не будет видно дорогу, и глаза поднимаются над краем шарфа ровно на такое колическво милиметров, чтобы не врезаться во что-нибудь, и чтобы ресницы не примерзли: из-под шарфа к ним поднимается пар дыхания и тут же превращается в иней, не так-то просто мограть заиндевелыми ресницами…
И в автобусе от Сызрани до Тольятти я поднимаю шарф — и вот уже есть «домик».
- Во сколько мы сегодня начинаем, Ирка? — спрашиваю я.
— Договаривались в 11, как всегда. Посмотрим, как там все сложится.
Теперь можно дремать под шарфом. Хорошо, когда в серо-холодном утре посреди не то полей, не то степей, рядом есть человек, который беспокоится о работе еще больше, чем ты. С Иркой, наверное, можно было бы отправляться на освоение новых земель, золотая лихорадка и все такое. Все параллели и меридианы были бы посчитаны, деньги надежно спрятаны и не проиграны… Только она бы туда не поехала. Во-первых, потому что там вряд ли понадобилась бы гештальттерапия, во-вторых, потому что слишком рисковано, а в-третьих, что она вообще там забыла. А в Тольятти вот мы едем.
- Надо найти телефон и позвонить организаторше.
И потом заспанная «организаторша» (ей ведь тоже зачем-то сдалась вся эта история с немецким названием «гештальт») бежит к нам, отводит в квартиру, где мы будем жить 4 дня, пока идет группа. Группа — целая жизнь за 4 дня. Люди встречаются и сталкиваются, и не потому что не поделили найденного золота и не потому, что собираются вместе провести остаток жизни, нет, через 4 дня они разойдутся и до следующей группы могут и не встретиться вовсе. Просто они люди и хотят хоть чуть-чуть понимать свою жизнь. И тут ты оказываешься в эпицентре пересекающихся линий страстей, желаний… Из банальнейших историй, человеческой глупости и душевной лени вдруг начинает прорастать что-то большее, какая-то новая история, которая вдруг все меняет, наполняет новым смыслом, и как будто ты тоже как-то ко всему этому причастен. До группы 3 часа, но с Иркой не поспишь, пусть ты даже всю ночь в этом душном поезде промучился. Так и быть — принять душ, так и быть — позавтракать, а дальше — обсуждать группу. Можно придумать 15 вариантов начала, и все равно будет нужно 16-е, потому что все равно не понятно, кто они, люди с которыми ты еще не встречался, и что им нужно сегодня.
- Ирка, давай не будем выходить за час до начала! Нам же 20 минут добираться!
— А осмотреться? Кроме того, не 20, а 25. Ладно, так и быть, выйдем за 40.
В группе на 25 женщин один мужчина, что тоже очень характерно. Кому интересно разбираться с этой жизнью? А кому, правда, интересно разбираться с этой жизнью? Вам интересно? Мне — иногда, не очень часто и по большой необходимости, а еще лучше — не со своей жизнью, а с чьей-нибудь еще, хотя это тут же становится частью моей жизни. Раньше казалось, что нужно, а главное, можно, как-то со своей жизнью сначала разобраться, а потом… Я же психолог, вы же понимаете. И в какие-то моменты даже вдруг что-то такое мерещилось, как будто бы даже не просто понятное, а механизм самого понимания… Ох, и приятные же, я вам скажу, моменты. Как будто бы прямо физически чувствуешь, как жизнь в тебе движется и как ты вместе с нею… и не страшно совсем ни дураком оказаться, ни ошибиться, потому что что уж тут ошибаться, когда сама жизнь внутри движется. Кажется, я как-то сбивчиво объясняю? Можно, наверно, с любовью сравнить или с беременностью такой радостной, когда жизнь внутри тебя и ты уже позволила ей быть, и себе быть. Вот я и запнулась. Как-то я раньше это место лучше понимала. А, нет, поняла, это не про беременность, которая есть продолжение каких-то отношений двух людей или предзнаменование каких-то еще других отношений еще каких-то людей, а просто про само состояние. Вот представляете, это когда вы не думаете о том, что было, и о том, что будет, о том, как, на что и с кем вы будете жить и что вообще делать, когда вас не тошнит, не болит, голова не кружится и пить не хочется. А просто вы чувствуете жизнь внутри себя неоспоримо и явственно. Представили? Так вот, это почти невозможно. Непереносимо в своей бесконтрольной текучести. Можете, конечно, сказать, что уж больно пафосно. Если уж так невозможно, то как же все беременные ходят? И ничего себе — рожают. Так вот я же как раз не про роды (во всяком случае — пока)и не про детей, а, может быть, про редкую способность не конролировать, но сознавать и чувствовать.
Потом почти до хрипоты обсуждаем, что же там было, на группе, где были основные темы, основные силы.
- Может, завтра после лекционного куска предложим им в какой-нибудь образной форме представить происходящее на группе? — говорит Ирка.
— Нет, после лекции они «засохшие», а потом, — с какой стати? Только если это «выплывет из процесса».
— Вот я ценю твои идеи, а мои — сразу вызывают твое сопротивление, мне это неприятно.
— Да…значит, конкурируем…
А что поделать? Немножко поругаться, помириться и дальше — опять к Иркиным ежедневным описаниям работы, надо же еще понять, как все это, все то, что с нами происходит, связано с ситуацией в группе.
А потом, после окончания группы, мы лежали с Иркой на диване и смотрели какой-то австралийский фильм про юношу, который хотел сыграть третий концерт Рахманинова. И папа его сильно хотел, чтобы его сын сыграл этот концерт. И все так сошлось и перевернулось, концерт оказался больше и сильнее, он свел юношу с ума, но как-то не страшно, может, потому что музыка с ним осталась? А может, просто мне было хорошо. Мы ведь сделали это! Провели целую группу, большую и настоящую…нашу первую группу. Ирке, кажется, тоже было хорошо. Она переживала за юношу и не одобряла отца, она даже, по-моему, думала, что отец больше виноват, чем Рахманинов со своим концертом. За окном был ночной заснеженный Тольятти, такой какой-то большой, неуютный, неуклюжий, как будто бы всеми своими домами противящийся всей этой романтике.
Тольятти, особенный город. Второй раз я туда летела. Летела работать в паре с любимым учителем. Тоже в первый раз.
- Олег, чего бы ты хотел от меня на группе?
— А-м-э…
В те времена Большой О. просто физически не мог отвечать на вопросы, в которых не чувствовал смысла. Что еще он мог мне сказать, чтобы у меня хватило окаянства оставаться на группе собой, видеть то, что происходит, слушать его и по возможности спокойно работать? Вот такая простая и разнообразная задача. Все слова либо были уже сказаны, либо подействовали бы только в одну какую-нибудь сторону, разнообразие задачи могло похериться. И Большой О. скорее мычал, чем говорил что-то вразумительное. Сейчас он стал более терпим к вопросам, ответы на которые вряд ли могут что-то прибавить к тому, о чем вопрошающий уже и так сильно догадывается. Летим. У меня книжка не то Перлза, не то Польстеров про гештальттерапию, я пытаюсь «надышаться перед смертью», но закладка — моя фотка трехлетней давности, там лето, усадьба приморского поселка, и я в общем неплохо там выгляжу.
- Олег, смотри, какая я была до занятий психотерапией.
— Да…совсем другое лицо, выражение другое.
— Какое?
— Более свободное, расслабленное.
«Вот гад, гад, гад!» Самым невозможным для меня в этот момент было — расслабиться, это звучало глумливо и точно. Может, поспать, во сне лицо как-то расслабляется, да и вообще, могу же я не отвечать за свое спящее лицо. Но спать по дороге в Тольятти (там лететь-то без году неделя), да еще когда спать совсем не хочется — совсем пижонство.
- Олег, в каком качестве я тебе нужна на группе?
— А-м-э…ты же сама все знаешь.
Прилетаем. В Тольятти весна, улицы как будто еще шире стали, растаявший снег течет по улицам, а мне и не дышится и не слышится. Едем в троллейбусе на группу.
- Олег, как бы я тебе могла пригодиться на группе?
— Сиди и молчи! — орет он на весь троллейбус.
Все! Все рухнуло, что могло и не могло. Ничего не осталось кроме меня, того, что я могу, и на что решаюсь, его и группы, которую он так и так проведет классно. А удастся ли мне поплясать на этом празнике жизни — это уж поглядим. В этом месте я, наверное, могла бы многое сказать. И все это звучало бы как тост за котерапию, но я-таки не буду, потому что кто знает это счастье — поймет меня, а кто не знает…тому потом можно будет позавидовать, потому что если он найдет себе правильного котерапевта, он несомненно будет счастлив и вдохновлен.
Да, но вернемся к Тольятти. Тогда мы впервые перешли работать из Нового города в Старый. Вот вы знаете, что такое Новый город, что такое — Старый? Вы думаете, что это два района одного города, один поновее, другой постарше? Я тоже так думала. Но Тольятти, он на то и носит имя какого-то итальянского…революционера, что там все не как у людей. Или вот где-нибудь в Иркутске или в Нижнем Новгороде живет человек в каком-нибудь микрорайоне «Солнечный», и понадобилось ему в центр по делам, он говорит:
- Я в город поехал. В институт зайду, хлеба куплю и вернусь.
Он же не из деревни едет и не с полустанка какого-нибудь, он же в том же городе живет и в него и едет. Может, это память какая-то про те времена, когда все эти микрорайоны отдельными деревнями были, или просто память про другое распределение пространства. Так вот в Тольятти все это «новое» и «старое» как будто бы совсем не про память, это какая-то другая история. Тольятти — это русская Америка в отдельно взятом городе, со своей новизной и памятью ненадолго, своими прериями и законом силы. Они только свои убийства линчеванием не называют, но не в названии же дело. Тольятти — не город, Тольятти — орнамент из геометрически пересекающихся улиц и улочек. Когда-то на этом месте был нормальный город — Ставрополь на Волге. Но потом понадобилась гидроэлектростанция, и город затопили, а на берегу нового водохранилища построили новый город и назвали Тольятти, в честь того самого итальянца-революционера. Сама по себе история сюрная. Города же так просто не рождаются и не умирают, да еще почти на одном и том же месте. Город же по своим каким-то законам развивается, а тут… Это как назвать девочку Даздрапермой. Вроде как жизнь целой страны, которая решила, что может сама себя строить, врывается через форточку и ворошит пеленки:»Да здравствует, мол, первое мая!» Но ведь тем же ветром драконья сперма глупости наводит полный хаос в еще не наступившей жизни. Как жить-то с таким именем?
Тольятти начал сам по себе во мне проявляться лицами людей. Так, может быть, всегда происходит, во всяком случае, у меня. Я, наверное, неправильный турист, ни один даже самый прекрасный город не будет мне интересен, если я не смогу его «заселить», «обжить». Должны во всем этом звучать человеческие голоса, человеческие истории, и тогда… силы появляются, а так — хоть ложись и спи. С другой стороны, вот какой-нибудь Кельнский собор, который 600 лет строили и сейчас еще продолжают, какие там могут быть истории, они ведь все несоразмерны на первый взгляд. Там одна большая история, про то, как люди что-то строят, умирают, а их дети продолжают, и так все это дело переходит из поколения-в поколение. Они не видят окончания, знают, что умрут, не увидев, но продолжают строить. Не разрушать от досады, что им окончательной красоты не достанется или там еще чего-нибудь, а продолжать строить. В этом есть для меня какая-то человеческая история, и тем больше она меня трогает, чем больше вызывает простых сомнений. Я должна как-то выйти за пределы своих сегодняшних представлений о том, как люди думают и чувствуют, я должна как-то расшириться душой. Чтобы так что-то строить, мне нужно очень ценить жизнь до себя и после себя, мне нужно во все это очень верить, а кроме того, вообще как-то «распупонить» свою жизнь, т.е. перестать быть пупом собственной вселенной, а это уж совсем нелегко. Ясно, что они жили с Богом, это, видно, и поколения их связывало… Ладно, я сейчас не про это, я собственно просто говорю, что не умею даже на самые потрясающие вещи просто так смотреть, мне все равно нужно что-то человеческое искать.
И в Тольятти эти «человеческие истории» во-первых, приезжали вместе со мной, с Иркой Булюбаш, с Олегом, а потом еще и лица тех, к кому мы приезжали, стали для меня проявляться, как на фотографиях, когда печатаешь. Собственно, сейчас ведь и не печатаешь, а раньше вот папенька закрывался в ванной, устраивал себе там лабораторию, и утром наша радостная жизнь смотрела черно-белыми тенями с еще теплого после глянцевателя картона.
- Нет, чтобы вот это я, за свои деньги, в такой конуре жила! Надо было нормально работать организаторам, любая моя девочка на фирме сделала бы эту работу лучше. Отдайте мои деньги, я сама найду себе гостиницу!
Стоит посреди летней болгарской Албены маленькая женщина с большими очками и короткой стрижкой и кричит. Кричит как будто даже немножко в нос, и крик такой неприятный, смесь капризного ребенка и скандальной бабы. Кто бы знал, сколько силы в этой маленькой женщине, кто бы знал, что она преуспеваюший бизнесмен, акула, волчица! Вы думаете, она добьется своего? Или вы думаете, что она не добьется своего? Интересно, что, что бы вы ни думали, это будет неправильно. Она обязательно добьется, но будет ли это «свое» именно тем, чего она хотела? Она поселится в соседней гостинице и будет гордо и одиноко туда удаляться по вечерам. Она умеет добиваться, использовать ситуацию, деньги, людей, и при этом жутко боится быть использованной. Этот страх переходит иногда просто в паранойю и отравляет ей почти все человеческие отношения. Она знает, что такое корысть, и страстно ищет бескорыстия, хотя сама она, наверное, так никогда бы не сказала о себе. Но как только начинает маячить что-то отдаленно намекающее на бескорыстное отношение, она обрушивает такой шквал капризно-скандальных сомнений, что легче отступиться и оставить ее спокойно оплакивать свои обиды. Парадоксальное существо! Вы можете себе представить шефа и владельца фирмы, который занимается с сотрудниками психотерапией? При чем не гипнотизирует, чтобы хорошо работали, а… углубляется в душевные переживания. Это какое-то вечное русское утопическое стремление к красоте, вот если немножко топором поколотить по основанию сука, на котором сижу, то ровнее будет! Или еще. Вы можете себе представить богатую, занятую женщину, которая в аптеках развешивает объявления, о том, что может «помочь залечить душевные раны»? А я теперь могу представить такую женщину, она будет маленькая, жилистая, с пластикой подростка, готового подраться, если что, в больших очках и с короткой стрижкой.
Или, наоборот, представьте себе юную и вполне романтичную красавицу. Высокую, с миндальными черными глазами и желанием помогать людям. У нее много сил и ясные представления о справедливости. Она недавно замужем и уже ждет ребенка. Ее муж — чуть ли не одноклассник, он тоже молод, пытается не говорить много в обществе женщин, и гордится своей красавицей. Нет, эту историю лучше представлять не в Тольятти, она опасна для этого города. Юноша захочет, чтобы его молодая семья хорошо жила, вляпается в «жигулевский бизнес» и пропадет, без следа и вести.
Или другая романтическая история. О большой любви, начиная со школы. Они уже там нашли друг друга и все знали, что они — вместе. Сразу после школы они поженились и дальше росли вместе, кончали институты, рожали детей. Троих детей, между прочим. Он работал и куда-то пробивался, добивался, защищался, поднимался. Она помогала, рожала, тоже училась. И то, что оставалось неизменным — это их история о большой любви, начиная со школы. Потом пришло время «бизнеса», у него все получилось, появились деньги, изменилась жизнь. Сауны, секретарша… Все как будто совсем банально. Она мучилась ревностью, худела, чтобы «выглядеть», снова училась, тоже открывала свое дело, хотела 4-го ребенка. Им тяжело вместе и они не могут расстаться, они отталкивают друг друга и не пускают, уходят из дома и возвращаются в одну и ту же постель. Что держит их в жизни, которая совсем-совсем поменялась? Ведь не старая история о большой школьной любви?
Поезд отходит от «Жигулеского моря». А может, мы не успеем? Может, нужно ехать от самого Тольятти. Нет, это безумие, сначала два часа ехать до вокзала, потом еще час на поезде от вокзала до этого самого «Жигулевского моря». Что тут долго говорить, едем от «Жигулевского моря». Это маленькая грязная станция с намеками на какие-то вокзальные закоулки. Но никаких закоулков нет, а есть одна большая комната, где по стенкам стоят вокзальные фанерные кресла и сидят люди рядом с сумками и чемоданами. Лица в основном какие-то «местные», вот если человек всю свою жизнь проводит здесь, она, эта жизнь ведь совсем какая-то другая получается, совсем отличная от моей, например. Напротив меня бабка в коричневом платке, темносером пальто и сапогах советского пошива. Вот то, как у нее платок у висков заложен, как пальто застегнуто и вообще как ее ноги в этих сапогах стоят — это все уже само по себе — другая жизнь. Вот я если так платок надену, точно по-другому себя чувствовать буду, в той другой «бабкиной» жизни у вещей иное назначение и свойства. Они должны быть теплыми и крепкими, они должны «долго носиться», вот собственно, и все. В моей жизни тоже вроде, хорошо было бы, если бы «долго носилось», но уже все как-то по-другому, я и недолго-то не донашиваю, все что-то поменять хочу. На станции как-то много мужчин, и моему глазу это странно, для меня Тольятти — город женщин, мужчины существуют в каком-то мифическом варианте, то ли воюют, то ли пищу добывают, а здесь — на тебе, куда-то едут. В Москву едут, как и я. Подходит поезд, в моем купе — две молодые женщины, обе — Лены. Одна из них — в больших очках, ест нечто отдаленно напоминающее шашлык с картонной тарелки, мизинцы отставлены в стороны и губы смущенно поджаты. Я не снимаю полушубок, они тоже одеты — в купе колотун. А женщина ест шашлык и запивает пивом. Шашлык холодный и вообще как-то ей все время неловко.
- Вы до самой Москвы? — так всегда начинаются поездные разговоры. Я вроде, не хочу разговаривать, у меня с собой несколько книг, которые особенно хорошо в поездах читать, и вообще — я устала разговаривать с людьми. Еще только три часа дня, но уже начинает темнеть. Зима все-таки. За окном серо-розовое небо и заснеженные холмы. Привыкает глаз с детства видеть зимой этот снег, и если его нет — то глазу холодно и как-то неприкаяно. Вот ведь и понятно, что там под снегом много всякого, оставшегося от осенней жизни, но теперь оно покрыто ровным белым слоем и как будто этот снег успокаивает и спасает от какой-то суеты. Там, за окном, он сначала становится темно-синим, потом к этой синеве все больше примешивается серый, уходящий в ночь. Я не могу оторваться от этих холмов и заснеженных деревьев, даже периодические свалки как-то во все это вписываются. Девушки оказываются ландшафтными дизайнерами, и с ними можно говорить про все это за окном, ничего не объясняя, почему вдруг меня так снег притягивает и что это я по нормальным свалкам соскучилась. У второй Лены (той, что без шашлыка) копна кудрявых рыжих волос, заплетенных в две короткие косички, на ней ботинки на толстой подошве, как потом выясняется — она донашивает их за дочерью и очень любит за удобство. Дочь она, конечно, тоже очень любит, а к вещам привыкает, прикипает и потом трудно «перелазит» в другие. Двоих дочерей она растит сама, вернее, они просто вместе живут, дочери уже взрослые, она — молодая, они живут… Наверное, даже в каком-то общежитии. У нее поразительные волосы, бронзово-рыжие, очень густые и кудрявые, такие на старых картинах у какой-нибудь Юдифи или Рахили могли быть. Но она не Рахиль, а — Лена, вернее, в ней смешались Рахиль и женщина с гитарой и рюкзаком у походного костра. В ней продолжает звучать походная романтика, в том, как она рассказывает про Алтай, про какие-то геологические партии, но звучит она как-то не фатально, видно, что многое в ее жизни есть и «не про это».
- Здесь вообще удивительные места. К нам ведь регулярно все эти еги и остальные всякие съезжаются. У нас какой-то энергетический центр, таких только три по всему миру.
— Это где у вас такое?
— На берегу водохранилища, вот эти дачи проехать, и потом гора, вот за этой как раз горой.
— Это то водохранилище, где старый город затоплен?
— Да там.
— Я слышала, что там что-то такое видят люди периодически.
— Да, обычно по весне, где-нибудь март-апрель, — говорит рыженькая.
— Нет, ближе к лету, в мае, я слышала, — поправляет ее вторая.
— Я сама не видела, но много наших рассказывали. То ли это природное такое явление, то ли что. Там целые картины движущиеся люди над водой видят. Дома и церкви старого города, людей в старинных одеждах. И очень часто какие-то битвы, сражения, то есть люди все эти бьются друг с другом.
— Я тоже сама не видела, — говорит вторая, — но даже передача такая по телевизору была, сразу после документального фильма про жигулевскую войну, помнишь?
— Про жигулевскую войну? Там тоже кто-то с кем-то бьется?
— Да, стреляют, взрывают, одна мафия с другой борется, но больше просто люди пропадают, и никто уже не знает, где они и что с ними.
— Да, я слышала, страшновато тут у вас.
— Да нет, люди ко всему привыкают, хотя детей, конечно, так просто не отпускают, в школу — из школы.
— А на водохранилище этом, когда шлюзы спускают, — продолжает рыженькая, — крест старой церкви над водой появляется. Конечно, целый город потопить — это все так просто не проходит. Уже теперь кто побогаче да поумнее на берегу часовни стали строить, прощение вымаливать.
— Даст Бог, может, правда что-то…- я спотыкаюсь о слово «изменится», я, действительно, хочу, чтобы что-то у них изменилось, чтобы не было ничего такого, что так буднично называют «войной», со своими убитыми и пропавшими без вести. Но уже так много здесь изменялось, даже целый город взяли и передвинули, переименовали, теперь вот — часовни ставят, а может, для того и меняли, чтобы теперь часовни ставить, не знаю…- установится, — мне легче сказать.
Мы подъезжаем к Сызрани. Уже совсем темно.
- Сейчас купим рыбы и пива!
— Какая рыба? Там же ночь, неужели в такую темень и холод кто-то там еще что-то продает?
— Конечно! К поездам они всегда рыбу выносят, да еще какую! Я такой рыбы больше нигде не ела!
— А выбирать ты умеешь? Жабры там — мабры и все такое?
— Ну, выбирали у нас, конечно, всегда мужчины, но тут трудно совсем уж так ошибиться. У чихони нужно, чтобы шкурка такая блестящая была, и чтобы она не слишком сухая и не слишком жидкая на ощупь.
— Ну, ты скажешь тоже, что у рыбы, шкура что ли.
— Я же не говорю — шкура, но там не чешуя, там кожица такая.
— Ладно, пошли.
Мы выходим на ночной сызранский перрон, это правда — какая-то рыбная сказка. Холод, ночь, а тут эти вечные бабки со связками вяленой, соленой, сушеной рыбы, с вареными красными раками, коробками с пивом. Чихонь висит первобытным ожерельем у кого на веревке, у кого на толстой железной проволоке. Она действительно поблескивает прямо серебром каким-то и кажется что ее вот только сейчас, только к твоему поезду закончили солить и вялить, откуда-то сняли и сюда ночью принесли. Хочется купить ее всю, приходится как-то себя останавливать, представлять, как будет всю ночь пахнуть в купе, как с нею завтра ехать в метро, если не удасться все доесть и т.д. Но это все — насилие над воображением, а потому штук 10 чихоней я все-таки покупаю, девушки покупают пиво — и мы продолжаем праздновать эту нашу единственную жизнь от Тольятти до Москвы.
Ирина Захарян