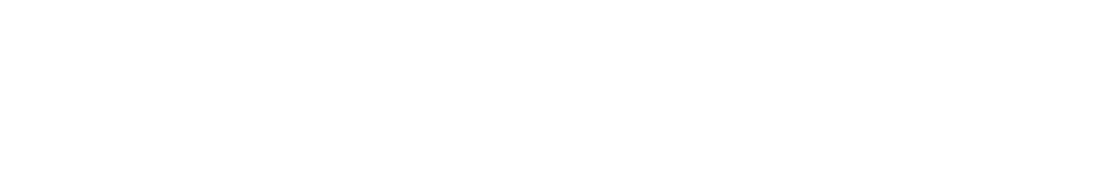Стыд и диалог
(Лекция, прочитанная на VIII-й конференции Европейской Ассоциации Гештальт Терапии (EAGT) в Праге, сентябрь 2004.)
Опубликована в журнале Гештальт Гештальтов-2006 №2
Гештальт-терапия имеет хорошо разработанную и внутренне гармоничную теорию. Так как вы не возражаете, то я продолжу.
Феноменологический метод, теория поля, теория диалога являются основными принципами нашего подхода (Резник, 1995). Это звучит внушительно, и гештальт-терапевты склонны не обращать внимания на то, что отдельные части теории могут противоречить друг другу. Здесь я хотел бы сказать несколько слов о противоречии между теорией поля (см.: Перлз, Гудман,2001) и диалогической точкой зрения.
Концепция поля организм/среда, как указывает Жан-Мари Робин, описывает взаимодействие «между субъектом и тем, что не является субъектом. Здесь организм выступает как организующий принцип, основной элемент, а окружающая среда является другой частью поля, причем сам организм включен в это поле» (Робин, 1994).
Теория диалога описывает нечто отличное, а именно взаимодействие между двумя субъектами.
Если мы придерживаемся диалогической точки зрения, то мы не можем основываться на понятиях «организм» и «окружающая среда». «Среда» не имеет границ и, следовательно, не может быть субъектом. Эта терминологическая пара – организм и окружающая среда – весьма полезна для анализа процесса организмической саморегуляции, но диалогическая точка зрения описывает скорее взаимодействие между человеком и миром. И мир в этом случае рассматривается в качестве другого субъекта. (Для избежания терминологической путаницы: здесь игнорируется противопоставление субъекта и целостной личности, а акцент делается на противопоставлении диалогической (субъект – субъектной) и монологической (субъект – объектной) ситуации.)
Итак, речь идет о концепции Я – Оно и Я – Ты отношений Мартина Бубера. (Бубер,1995). В русле этой концепции поведение человека всегда должно рассматриваться в двух контекстах – в диалогическом аспекте (Я – Ты) и в аспекте саморегуляции (Я – Оно). Диалогические отношения предполагают взаимное уважение к уникальности другого и интерес к его непредсказуемой активности. Феноменологическим признаком диалога, как отмечает Мартин Бубер, является присутствие удивления перед лицом инаковости другого человека. Диалог касается того, что происходит между людьми, а не внутри них или с ними, и определенно не может быть описан в терминах организма и окружающей среды.
Вам может показаться, что это чисто философская или терминологическая дискуссия, не имеющая отношения к нашей терапевтической практике. Но существуют явления, которые в принципе не могут быть адекватно осмыслены вне диалогического контекста. Я хотел бы подробнее остановиться на одном из таких явлений, — на феномене стыда.
В течение многих лет гештальт-терапевты, подобно классическому носителю нарцистических тенденций, более или менее игнорировали переживание стыда. Чуть больше десяти лет назад они открыли это чувство и начали им интенсивно интересоваться. Что же, выглядит как терапевтический прогресс… Но каково же понимание стыда современными гештальт-теоретиками?
Возможно, многие из вас читали впечатляющую книгу «Голоса стыда» (“Voices of Shame”) под редакцией Роберта Ли и Гордона Вилера, вышедшую в 1996 году? Что мы там видим?
Во-первых, значение понятия «стыд» становится чрезвычайно широким. Роберт Ли называет в качестве вариаций стыда «робость, смущение, унижение, низкое самоуважение, ощущение себя смешным или глупым, дискомфорт, состояние замешательства, ощущение позора, бесчестия, низости, оскорбленности, деградации, застенчивости, обескураженности, вины» и так далее. (Простите, я слегка сократил этот список!) Р.Ли продолжает: «Стыд живет в нас как часть нашего совокупного опыта, возможно, в таких формах как мягкое смущение, робость, разочарование или хуже». Я прошу вас обратить внимание на это «или хуже», потому что другая особенность господствующей интерпретации стыда состоит в очевидно негативной оценке этого чувства. Гордон Вилер, солидаризуясь с Гершеном Кауфманом, приводит длинную цитату из него:
«Стыд сам по себе является входом в самость (self). Это аффект унижения, поражения, греха, неполноценности и отчуждения. Никакой другой аффект не находится так близко к переживаемой самости. Ничто не является настолько центральным для чувства идентичности. Стыд переживается как внутренняя мука, как болезнь души. Это наиболее острое переживание самости самостью (“experience of the self by the self”), в форме ли унижения, или трусости, или ощущения неудачи в том, чтобы успешно справиться с жизненным вызовом. Стыд это рана, чувствуемая изнутри, отделяющая нас от самих себя и друг от друга. Стыд это аффект, являющийся источником многих сложных нарушений: депрессии, отчуждения, изолирующего одиночества, параноидных и шизоидных явлений, компульсивных расстройств, расщепления, перфекционизма, глубокого чувства неполноценности, неадекватности или несостоятельности, так называемых пограничных и нарцистических расстройств. Корни всех этих явлений лежат в стыде… Все они связаны со значительной межличностной несостоятельностью» (Lee, Wheeler, 1996, pp. 45 – 47).
Надеюсь, уже достаточно страшно… Стыд выглядит огромным чудовищем, поедающим самости.
На мой взгляд, тайна стыда может оказаться более простой и куда менее пугающей.
Позвольте напомнить, что феноменологически стыд переживается как ощущение себя видимым, ощущение того, что на меня смотрят и видят, импульс к тому, чтобы съежиться и желание «провалиться сквозь землю», чтобы не быть видимым. Если вы осмелитесь на терапевтический эксперимент, поощряя вашего клиента сознавать, что он видим, и рискнуть встретиться с направленными на него взглядами, вы скорее всего увидите как чувство стыда сменяется чувством смущения. Стыд по сути есть лишь ретрофлексия смущения. Что же касается смущения, то оно появляется в тот момент, когда человек начинает сознавать, что не только он смотрит на мир и воспринимает его, но и мир смотрит и воспринимает его. В «окружающей среде» обнаруживается Другой Человек; чувство смущения есть трепет, охватывающий человека при обнаружении в «поле» другого субъекта. Перефразируя Кауфмана (cf.: Lee, Wheeler (eds.), 1996), мы можем сказать, что смущение это «вход» в инкаунтер. Оно маркирует момент перехода от субъект – объектного к субъект – субъектному взаимодействию. Когда я воспринимаю окружающий мир как объект, я не чувствую ни смущения, ни стыда. Когда я начинаю сознавать, что другой человек во всей полноте своего присутствия находится передо мной, когда я переживаю реальную грандиозность другого (не воображаемую, а реальную грандиозность его присутствия), я испытываю потрясение своих границ и чувствую смущение. Если мне не удается остаться в этой ситуации и пережить волнение начинающейся Встречи, то я трансформирую (ретрофлексирую) это чувство в стыд. Диалогическая (субъект – субъектная) структура разрушается, но вместо обратного превращения окружающего мира в объект (что, кстати, тоже случается при прерывании смущения) в случае стыда я превращаю в объект себя.
Таким образом, стыд это разрушение возможности диалога, разрушение встречи с другим посредством обращения на себя.
Когда мы наблюдаем пластичный ритм сближения, обращение фокуса внимания на себя выполняет контролирующую, тестирующую функцию в начале этого процесса. (В конце концов, мои побуждения могут быть в самом деле неуместными для другого человека в данную минуту его жизни!). Но когда это обращение является резким толчком в ходе нарастания близости, оно приобретает роль разрушителя интимности.
Позвольте мне вернуться к обсуждению различий в понимании стыда. Теоретики стыда интерпретируют это явление как результат само-отвержения (self-rejection). Но если основываться не на линейной логике причинно-следственных связей, а на исследовании роли явления в динамике субъект – субъектных отношений, то мы увидим, что само само-отвержение (или, наоборот, раздутая гордость) является средством прерывания процесса сближения. Если смущение — это трепет прикосновения к другому человеку, то стыд — это отступление, и само-отвержение является средством и когнитивным механизмом этого отступления. (Это что-то вроде «основного вопроса» стыда: что выступает в качестве объяснительного принципа – отношение или идентичность? На мой взгляд, это весьма актуальный вопрос для сегодняшней гештальт-терапии (чем и обусловлен мой интерес к феномену стыда), определяющий, куда будет развиваться ее теория – в сторону диалогичности или в сторону когнитивизма.)
Два взгляда на стыд предполагают две различные терапевтические стратегии. В одном случае, который предполагается теоретиками стыда, стыд рассматривается как результат травмы, и терапевтическая задача связана с расширением самоидентичности клиента. В другом случае стыд рассматривается как естественный момент в гамбите сближения, и задачи терапии связаны с улучшением сознавания, сензитивности и пластичности в движениях клиента К и ОТ другого человека. В последнем случае стыд теряет образ монстра, разрушающего идентичность, и приобретает позитивный смысл, в частности смысл регуляции дистанции в отношениях в зависимости от моей готовности и готовности другого человека к сближению. Стыд является важным приспособлением для тестирования соответствия поведения внутренним переживаниям. На мой взгляд, только если мы примем позитивный смысл стыда, мы перестанем лечить клиентов от стыда как от инфекции, а будем помогать им пройти через это переживание.
Следующий важный вопрос, ответ на который нам необходим для преодоления понимания стыда как токсического само-отвержения: что делает стыд хроническим?
Мой ответ: то же, что делает хроническим любое переживание, а именно незавершенность.
Здесь мы подходим к очень важному аспекту понимания стыда. Я уже говорил, что стыд это отступление. Но если бы это было полное и удовлетворительное отступление, мы наблюдали бы другие чувства. Например, выражая здоровую агрессию, человек может отойти и найти удовлетворение в более автономной позиции. Дело в том, что в переживании стыда всегда присутствует потребность в сближении. Стыд это отступление (точнее, оттягивание себя назад), но с сохранением желания приблизиться. Хронический стыд это хронически неудовлетворенная потребность в близости в сочетании с ожиданием отвержения. Когда я сталкиваюсь с манифестацией стыда, прямо не вытекающей из терапевтической ситуации, я могу предположить наличие у клиента потребности в близости в сочетании с привычным ожиданием отвержения.
Что дает нам это понимание в практическом плане?
Прежде всего, важно не игнорировать проявления стыда, признавая их ценность для жизни клиента. Более того, на мой взгляд, хорошо бы не гарантировать (прямо или косвенно) отсутствие отвержения. Лучше поддержать процесс переживания стыда. Эта поддержка может включать в себя присутствие терапевта, адекватную порцию самораскрытия (например, для того, чтобы дать клиенту возможность пройти от стыда к более «диалогичному» состоянию смущения) и, что самое важное, она включает поощрение клиента к тому, чтобы быть видимым, выражать себя и сознавать свою доступность для восприятия со стороны других людей.
Еще один важный пункт – расширение понятия стыда. Согласно Гордону Вилеру, не только вина является разновидностью стыда, но также «ярость всегда связана со стыдом, с отчаянием и паникой от потери своего жизнеспособного места в поле» (р.215). На основании этого теоретического убеждения проявления ярости интерпретируются как проявления стыда. Так, Роберт Ли в статье, посвященной функционированию стыда в супружеской терапии, пишет: «… Джордж рассказал нам, что он ненавидел себя после того, как становился сердитым и полным ярости. Он знал, что ранит окружающих людей… В такие моменты он чувствовал себя как доктор Джекил и мистер Хайд. Я рассказал ему, что, на мой взгляд, он, возможно, был наполнен стыдом, и что стыд в такой форме, которую можно назвать приступом стыда, обычно является результатом старой травмы…» (р.181)
Неплохо для гештальт-терапии, не правда ли? Не только ярость это стыд, но стыд это результат старой травмы, и все это вразумительно объясняется клиенту…
Конечно, мы знаем ситуации, когда одно чувство подменяется другим. Проявляемое чувство «спасает» человека от другого переживания, на месте которого оно возникает. Но, не говоря уже о том, что терапевт может промахнуться в своей интерпретации одного чувства как другого (строго говоря, гипотеза должна стать феноменологической очевидностью), сам по себе тезис «ярость всегда связана со стыдом» является безусловным преувеличением. Ярость служит отбрасыванию другого человека от моих границ. Она может быть средством избегания сближения, потребность в котором содержится в стыде. Но вообще мне кажется, что разговоры терапевта о чувствах, телесные признаки которых отсутствуют в актуальной ситуации, свидетельствуют либо о лени терапевта, либо о намерении побыстрее «прорвать сопротивление». Если гештальт-терапевт не видит феноменологических признаков стыда, не лучше ли ему ограничиться комментарием относительно поведенческих тенденций, а не интерпретировать так называемые «латентные» чувства?
Более тонкий момент – различие между стыдом и виной.
Большинство гештальт-терапевтов, обсуждающих этот вопрос, сходятся в том, что стыд – это переживание «плохости» себя, а вина – это переживание «неправильности» конкретных действий. (Ван де Риет, 1997; Робин, 2002; др.) Даже Роберт Резник (2000), критикующий Ли и Вилера за антифеноменологическую позицию, не возражает против подобного основания для разделения вины и стыда. Другой авторитет в гештальт-терапии – Гари Йонтеф – пишет: «Стыд это чувство, сопровождающее переживание человеком того, что он «не ОК» и/или «не достаточен». Вина это чувство, сопровождающее переживание человеком того, что он совершил что-то плохое, обидел кого-то, нарушил какие-то моральные или правовые нормы» (Yontef, 1993).
Как все же любопытно! Практически все гештальт-терапевты сходятся в том, что природа человеческих эмоций чувствительна к различению между восприятием себя и восприятием своего поведения и нечувствительна к направленности отношения, к различению между побуждением к сближению и побуждением к отталкиванию. Ведь даже в приведенном выше определении стыд выглядит как переживание моей непригодности для другого (других), а вина – как переживание неправомерности моего отталкивания другого!
На мой взгляд, вина это чувство, появляющееся на выходе из слияния. Когда человек разрушает слияние, он чувствует вину. Это как «пограничный контроль», как официальное предупреждение: «Внимание! Вы покидаете зону единства!» Значение вины может быть понято в контексте движения от слияния к автономии. В частности, вина это удерживание себя от этого движения. Значение стыда, напротив, связано с удерживанием себя от сближения. В одном случае – случае вины – мы видим прерывание движения ОТ другого человека, в другом случае – случае стыда – прерывание движения К другому человеку. «Сообщение», которое несет в себе эмоция, в одном случае – «Это свой человек, а не чужой!» В другом случае «сообщение» противоположно – «Это чужой человек, а не свой!»
Позвольте мне теперь вернуться к самому началу лекции, к утверждению о том, что теория поля, описанная в терминах организма и окружающей среды, противоречит теории диалога. Я хотел бы высказать противоположное утверждение: идея поля не противоречит, а вполне согласуется с теорией диалога. Нужно только уточнить смысл понятия «поле». В «Гештальт-подходе» Фриц Перлз писал: «Фактически все это поле является диалектически дифференцированным единством. Биологически оно дифференцировано на организм и среду, психологически на самость и иное, морально — на эгоизм и альтруизм, научно – на субъективное и объективное и т.д.» (Перлз, 1996, с.36-37). Итак, во-первых, пара «организм – среда» описывает преимущественно биологический уровень человеческого функционирования, и, во-вторых, поле это диалектически дифференцированное единство. Если мы возьмем первую книгу Фрица Перлза «Эго, голод и агрессия», мы увидим, что метафора поля была связана для Перлза не только с физикой и конструкциями Курта Левина, но, возможно, даже в большей степени с диалектической философией Зигмунда Фридландера. Позвольте процитировать: «Зная «поле», контекст (обратите внимание на эту запятую! – О.Н.), мы можем определить противоположности, и наоборот, зная противоположности, мы можем определить специфичное для них поле» (Перлз, 2000, с.41).
Основываясь на понимании поля Фрицем Перлзом (не Полом Гудманом или Гордоном Вилером), мы можем понять регулятивный смысл любого психического явления посредством трехшагового алгоритма. Первый шаг: опираясь на феноменологию, мы находим полярность исследуемого явления. Второй шаг: выясняем, что общего в двух полярностях. И третий шаг: основываясь на результате предыдущей операции, устанавливаем контекст, в котором осуществляется регуляция поведения.
Конкретно! Что противоположно стыду? Феноменологически при стыде человек съеживается и хочет, чтобы никто на него не смотрел и не видел. Когда же мы видим раздутую грудь и желание человека, чтобы все смотрели и видели его, это называется… гордость?
Что общего между стыдом и гордостью? – Вероятно, сосредоточенность на себе вместо (за счет?) сосредоточенности на другом. Здесь, как и в случае со стыдом и смущением, мы можем отличать удовлетворенность собой, не препятствующую субъект – субъектному характеру взаимодействия, от, скажем так, острой гордости, которая в норме является моментом празднования себя. (К примеру, вы стали олимпийским чемпионом. Вы стоите на пьедестале, над вами развевается национальный флаг и играет гимн. Праздник упоения своей победой. Так же и с любым другим значимым достижением. В регулятивном плане оно должно быть «переварено и усвоено», что в данном случае включает «празднование»). Но, будучи продленной за пределы ситуации (человек таскает с собой свой пьедестал), эта гордость становится прерыванием диалогической возможности. Вывод: регулятивный контекст стыда и гордости связан с прерыванием возможности диалогических отношений.
И еще один важный момент. Если мы описываем контекст в диалектическом ключе, в терминах противоположностей, тогда паре СТЫД и ГОРДОСТЬ должна соответствовать противоположная пара СМУЩЕНИЕ и … чувство, которое сопровождает празднование другого человека (не как объекта, а как другого субъекта).
Я уже говорил, что смущение это трепет встречи с другим человеком в нахлынувшей полноте его живого присутствия. И если это состояние не будет ретрофлексировано, а будет прожито до той точки, когда возникнет свободный взгляд на другого, то во что оно может перейти?
Я думаю, что чувство, отражающее празднование другого человека вкупе с сохранением собственной целостности и свободы, это чувство радости.
Идея о том, что радость является специфически диалогическим феноменом, может показаться странной. Радость часто относят к классу так называемых базовых чувств. И довольно распространенным является мнение, что эти базовые чувства врождены или, по крайней мере, могут быть поняты на биологическом уровне. Но что является врожденным? Специфическая иннервация лицевых мышц?
Известно, что первая улыбка младенца связана с присутствием другого человека. Начиная с 4 –5-й недели и до 4 – 5-го месяца жизни ребенок улыбается любому человеку, если лицо этого человека находится на расстоянии примерно двух футов и этот человек кивает ему. Начиная с 4 –5-ти-месячного возраста ребенок уже редко улыбается незнакомым людям, реагируя таким образом в основном на мать и других членов семьи (Изард, 2002; Мухина, 1985).
Более того, Кэррол Изард, известный исследователь в области психологии эмоций пишет, что «радость – это не просто позитивное отношение к миру и к себе, это своеобразная связь между человеком и миром». «Радостный человек видит мир в его красоте и гармонии, … он склонен скорее получать удовольствие от объекта, наслаждаться им, нежели анализировать и критически осмыслять его. Он воспринимает объект таким, каков он есть, не стремясь улучшить или изменить его. Он воспринимает объект как часть мира, чувствует свою близость, причастность к нему, а не отдаляется, чтобы «опредметить» его» (Изард, 2002, с.153).
И еще один, пусть и косвенный, аргумент. В экспериментальном исследовании Бартлетта и Изарда (1972, см.: Изард, 2002) изучались эмпирические корреляции между различными эмоциями. Радость значимо коррелировала с тремя эмоциями – интересом, удивлением и … к удивлению исследователей, с одной так называемой негативной эмоцией – смущением. Что же общего во всех этих эмоциях? Диалогическая обращенность переживающего.
Итак, радость как специфически диалогический феномен – это празднование другого человека в сочетании с собственным присутствием и пространственной свободой (переживаемой свободой движений в пространстве).
В этом определении, кстати говоря, содержится различие удовольствия и радости. Удовольствие, если можно так выразиться, — «проксимальное» чувство; оно может быть осмыслено на уровне взаимодействия организма и среды и описано в таких терминах как интенсивность стимуляции, чувствительность, разрядка напряжения. Радость – «дистантное» чувство. Оно появляется только тогда, когда в «среде» выделяется другой субъект. В этом случае человек имеет возможность переживания пространства между двумя субъектами, между ним и другим человеком.
Мартин Бубер утверждал, что «пространство между» является тем местом, где происходит диалог. Моя идея заключается в том, что «пространство между» — не только сущностный признак диалога, но также нечто, что может быть непосредственно переживаемым. И это переживание пространства между Мной и Другим является еще одним феноменологическим признаком диалога. (Позвольте напомнить вам, что первый феноменологический признак диалога по Буберу – удивление перед лицом инаковости другого человека.)
Здесь перед нами не исследованная область. Можно было бы поговорить о некоторых характеристиках диалогического пространства, но мы вышли бы далеко за границы данной лекции. В заключение я хотел бы лишь добавить, что, хотя психотерапия и не может по своей сути всегда соответствовать характеристикам диалога, мы не должны игнорировать то, что сама природа многих психических явлений укоренена в диалогических отношениях. И эти явления могут быть исследованы и описаны.
Опубликована в журнале Гештальт Гештальтов-2006 №2
Гештальт-терапия имеет хорошо разработанную и внутренне гармоничную теорию. Так как вы не возражаете, то я продолжу.
Феноменологический метод, теория поля, теория диалога являются основными принципами нашего подхода (Резник, 1995). Это звучит внушительно, и гештальт-терапевты склонны не обращать внимания на то, что отдельные части теории могут противоречить друг другу. Здесь я хотел бы сказать несколько слов о противоречии между теорией поля (см.: Перлз, Гудман,2001) и диалогической точкой зрения.
Концепция поля организм/среда, как указывает Жан-Мари Робин, описывает взаимодействие «между субъектом и тем, что не является субъектом. Здесь организм выступает как организующий принцип, основной элемент, а окружающая среда является другой частью поля, причем сам организм включен в это поле» (Робин, 1994).
Теория диалога описывает нечто отличное, а именно взаимодействие между двумя субъектами.
Если мы придерживаемся диалогической точки зрения, то мы не можем основываться на понятиях «организм» и «окружающая среда». «Среда» не имеет границ и, следовательно, не может быть субъектом. Эта терминологическая пара – организм и окружающая среда – весьма полезна для анализа процесса организмической саморегуляции, но диалогическая точка зрения описывает скорее взаимодействие между человеком и миром. И мир в этом случае рассматривается в качестве другого субъекта. (Для избежания терминологической путаницы: здесь игнорируется противопоставление субъекта и целостной личности, а акцент делается на противопоставлении диалогической (субъект – субъектной) и монологической (субъект – объектной) ситуации.)
Итак, речь идет о концепции Я – Оно и Я – Ты отношений Мартина Бубера. (Бубер,1995). В русле этой концепции поведение человека всегда должно рассматриваться в двух контекстах – в диалогическом аспекте (Я – Ты) и в аспекте саморегуляции (Я – Оно). Диалогические отношения предполагают взаимное уважение к уникальности другого и интерес к его непредсказуемой активности. Феноменологическим признаком диалога, как отмечает Мартин Бубер, является присутствие удивления перед лицом инаковости другого человека. Диалог касается того, что происходит между людьми, а не внутри них или с ними, и определенно не может быть описан в терминах организма и окружающей среды.
Вам может показаться, что это чисто философская или терминологическая дискуссия, не имеющая отношения к нашей терапевтической практике. Но существуют явления, которые в принципе не могут быть адекватно осмыслены вне диалогического контекста. Я хотел бы подробнее остановиться на одном из таких явлений, — на феномене стыда.
В течение многих лет гештальт-терапевты, подобно классическому носителю нарцистических тенденций, более или менее игнорировали переживание стыда. Чуть больше десяти лет назад они открыли это чувство и начали им интенсивно интересоваться. Что же, выглядит как терапевтический прогресс… Но каково же понимание стыда современными гештальт-теоретиками?
Возможно, многие из вас читали впечатляющую книгу «Голоса стыда» (“Voices of Shame”) под редакцией Роберта Ли и Гордона Вилера, вышедшую в 1996 году? Что мы там видим?
Во-первых, значение понятия «стыд» становится чрезвычайно широким. Роберт Ли называет в качестве вариаций стыда «робость, смущение, унижение, низкое самоуважение, ощущение себя смешным или глупым, дискомфорт, состояние замешательства, ощущение позора, бесчестия, низости, оскорбленности, деградации, застенчивости, обескураженности, вины» и так далее. (Простите, я слегка сократил этот список!) Р.Ли продолжает: «Стыд живет в нас как часть нашего совокупного опыта, возможно, в таких формах как мягкое смущение, робость, разочарование или хуже». Я прошу вас обратить внимание на это «или хуже», потому что другая особенность господствующей интерпретации стыда состоит в очевидно негативной оценке этого чувства. Гордон Вилер, солидаризуясь с Гершеном Кауфманом, приводит длинную цитату из него:
«Стыд сам по себе является входом в самость (self). Это аффект унижения, поражения, греха, неполноценности и отчуждения. Никакой другой аффект не находится так близко к переживаемой самости. Ничто не является настолько центральным для чувства идентичности. Стыд переживается как внутренняя мука, как болезнь души. Это наиболее острое переживание самости самостью (“experience of the self by the self”), в форме ли унижения, или трусости, или ощущения неудачи в том, чтобы успешно справиться с жизненным вызовом. Стыд это рана, чувствуемая изнутри, отделяющая нас от самих себя и друг от друга. Стыд это аффект, являющийся источником многих сложных нарушений: депрессии, отчуждения, изолирующего одиночества, параноидных и шизоидных явлений, компульсивных расстройств, расщепления, перфекционизма, глубокого чувства неполноценности, неадекватности или несостоятельности, так называемых пограничных и нарцистических расстройств. Корни всех этих явлений лежат в стыде… Все они связаны со значительной межличностной несостоятельностью» (Lee, Wheeler, 1996, pp. 45 – 47).
Надеюсь, уже достаточно страшно… Стыд выглядит огромным чудовищем, поедающим самости.
На мой взгляд, тайна стыда может оказаться более простой и куда менее пугающей.
Позвольте напомнить, что феноменологически стыд переживается как ощущение себя видимым, ощущение того, что на меня смотрят и видят, импульс к тому, чтобы съежиться и желание «провалиться сквозь землю», чтобы не быть видимым. Если вы осмелитесь на терапевтический эксперимент, поощряя вашего клиента сознавать, что он видим, и рискнуть встретиться с направленными на него взглядами, вы скорее всего увидите как чувство стыда сменяется чувством смущения. Стыд по сути есть лишь ретрофлексия смущения. Что же касается смущения, то оно появляется в тот момент, когда человек начинает сознавать, что не только он смотрит на мир и воспринимает его, но и мир смотрит и воспринимает его. В «окружающей среде» обнаруживается Другой Человек; чувство смущения есть трепет, охватывающий человека при обнаружении в «поле» другого субъекта. Перефразируя Кауфмана (cf.: Lee, Wheeler (eds.), 1996), мы можем сказать, что смущение это «вход» в инкаунтер. Оно маркирует момент перехода от субъект – объектного к субъект – субъектному взаимодействию. Когда я воспринимаю окружающий мир как объект, я не чувствую ни смущения, ни стыда. Когда я начинаю сознавать, что другой человек во всей полноте своего присутствия находится передо мной, когда я переживаю реальную грандиозность другого (не воображаемую, а реальную грандиозность его присутствия), я испытываю потрясение своих границ и чувствую смущение. Если мне не удается остаться в этой ситуации и пережить волнение начинающейся Встречи, то я трансформирую (ретрофлексирую) это чувство в стыд. Диалогическая (субъект – субъектная) структура разрушается, но вместо обратного превращения окружающего мира в объект (что, кстати, тоже случается при прерывании смущения) в случае стыда я превращаю в объект себя.
Таким образом, стыд это разрушение возможности диалога, разрушение встречи с другим посредством обращения на себя.
Когда мы наблюдаем пластичный ритм сближения, обращение фокуса внимания на себя выполняет контролирующую, тестирующую функцию в начале этого процесса. (В конце концов, мои побуждения могут быть в самом деле неуместными для другого человека в данную минуту его жизни!). Но когда это обращение является резким толчком в ходе нарастания близости, оно приобретает роль разрушителя интимности.
Позвольте мне вернуться к обсуждению различий в понимании стыда. Теоретики стыда интерпретируют это явление как результат само-отвержения (self-rejection). Но если основываться не на линейной логике причинно-следственных связей, а на исследовании роли явления в динамике субъект – субъектных отношений, то мы увидим, что само само-отвержение (или, наоборот, раздутая гордость) является средством прерывания процесса сближения. Если смущение — это трепет прикосновения к другому человеку, то стыд — это отступление, и само-отвержение является средством и когнитивным механизмом этого отступления. (Это что-то вроде «основного вопроса» стыда: что выступает в качестве объяснительного принципа – отношение или идентичность? На мой взгляд, это весьма актуальный вопрос для сегодняшней гештальт-терапии (чем и обусловлен мой интерес к феномену стыда), определяющий, куда будет развиваться ее теория – в сторону диалогичности или в сторону когнитивизма.)
Два взгляда на стыд предполагают две различные терапевтические стратегии. В одном случае, который предполагается теоретиками стыда, стыд рассматривается как результат травмы, и терапевтическая задача связана с расширением самоидентичности клиента. В другом случае стыд рассматривается как естественный момент в гамбите сближения, и задачи терапии связаны с улучшением сознавания, сензитивности и пластичности в движениях клиента К и ОТ другого человека. В последнем случае стыд теряет образ монстра, разрушающего идентичность, и приобретает позитивный смысл, в частности смысл регуляции дистанции в отношениях в зависимости от моей готовности и готовности другого человека к сближению. Стыд является важным приспособлением для тестирования соответствия поведения внутренним переживаниям. На мой взгляд, только если мы примем позитивный смысл стыда, мы перестанем лечить клиентов от стыда как от инфекции, а будем помогать им пройти через это переживание.
Следующий важный вопрос, ответ на который нам необходим для преодоления понимания стыда как токсического само-отвержения: что делает стыд хроническим?
Мой ответ: то же, что делает хроническим любое переживание, а именно незавершенность.
Здесь мы подходим к очень важному аспекту понимания стыда. Я уже говорил, что стыд это отступление. Но если бы это было полное и удовлетворительное отступление, мы наблюдали бы другие чувства. Например, выражая здоровую агрессию, человек может отойти и найти удовлетворение в более автономной позиции. Дело в том, что в переживании стыда всегда присутствует потребность в сближении. Стыд это отступление (точнее, оттягивание себя назад), но с сохранением желания приблизиться. Хронический стыд это хронически неудовлетворенная потребность в близости в сочетании с ожиданием отвержения. Когда я сталкиваюсь с манифестацией стыда, прямо не вытекающей из терапевтической ситуации, я могу предположить наличие у клиента потребности в близости в сочетании с привычным ожиданием отвержения.
Что дает нам это понимание в практическом плане?
Прежде всего, важно не игнорировать проявления стыда, признавая их ценность для жизни клиента. Более того, на мой взгляд, хорошо бы не гарантировать (прямо или косвенно) отсутствие отвержения. Лучше поддержать процесс переживания стыда. Эта поддержка может включать в себя присутствие терапевта, адекватную порцию самораскрытия (например, для того, чтобы дать клиенту возможность пройти от стыда к более «диалогичному» состоянию смущения) и, что самое важное, она включает поощрение клиента к тому, чтобы быть видимым, выражать себя и сознавать свою доступность для восприятия со стороны других людей.
Еще один важный пункт – расширение понятия стыда. Согласно Гордону Вилеру, не только вина является разновидностью стыда, но также «ярость всегда связана со стыдом, с отчаянием и паникой от потери своего жизнеспособного места в поле» (р.215). На основании этого теоретического убеждения проявления ярости интерпретируются как проявления стыда. Так, Роберт Ли в статье, посвященной функционированию стыда в супружеской терапии, пишет: «… Джордж рассказал нам, что он ненавидел себя после того, как становился сердитым и полным ярости. Он знал, что ранит окружающих людей… В такие моменты он чувствовал себя как доктор Джекил и мистер Хайд. Я рассказал ему, что, на мой взгляд, он, возможно, был наполнен стыдом, и что стыд в такой форме, которую можно назвать приступом стыда, обычно является результатом старой травмы…» (р.181)
Неплохо для гештальт-терапии, не правда ли? Не только ярость это стыд, но стыд это результат старой травмы, и все это вразумительно объясняется клиенту…
Конечно, мы знаем ситуации, когда одно чувство подменяется другим. Проявляемое чувство «спасает» человека от другого переживания, на месте которого оно возникает. Но, не говоря уже о том, что терапевт может промахнуться в своей интерпретации одного чувства как другого (строго говоря, гипотеза должна стать феноменологической очевидностью), сам по себе тезис «ярость всегда связана со стыдом» является безусловным преувеличением. Ярость служит отбрасыванию другого человека от моих границ. Она может быть средством избегания сближения, потребность в котором содержится в стыде. Но вообще мне кажется, что разговоры терапевта о чувствах, телесные признаки которых отсутствуют в актуальной ситуации, свидетельствуют либо о лени терапевта, либо о намерении побыстрее «прорвать сопротивление». Если гештальт-терапевт не видит феноменологических признаков стыда, не лучше ли ему ограничиться комментарием относительно поведенческих тенденций, а не интерпретировать так называемые «латентные» чувства?
Более тонкий момент – различие между стыдом и виной.
Большинство гештальт-терапевтов, обсуждающих этот вопрос, сходятся в том, что стыд – это переживание «плохости» себя, а вина – это переживание «неправильности» конкретных действий. (Ван де Риет, 1997; Робин, 2002; др.) Даже Роберт Резник (2000), критикующий Ли и Вилера за антифеноменологическую позицию, не возражает против подобного основания для разделения вины и стыда. Другой авторитет в гештальт-терапии – Гари Йонтеф – пишет: «Стыд это чувство, сопровождающее переживание человеком того, что он «не ОК» и/или «не достаточен». Вина это чувство, сопровождающее переживание человеком того, что он совершил что-то плохое, обидел кого-то, нарушил какие-то моральные или правовые нормы» (Yontef, 1993).
Как все же любопытно! Практически все гештальт-терапевты сходятся в том, что природа человеческих эмоций чувствительна к различению между восприятием себя и восприятием своего поведения и нечувствительна к направленности отношения, к различению между побуждением к сближению и побуждением к отталкиванию. Ведь даже в приведенном выше определении стыд выглядит как переживание моей непригодности для другого (других), а вина – как переживание неправомерности моего отталкивания другого!
На мой взгляд, вина это чувство, появляющееся на выходе из слияния. Когда человек разрушает слияние, он чувствует вину. Это как «пограничный контроль», как официальное предупреждение: «Внимание! Вы покидаете зону единства!» Значение вины может быть понято в контексте движения от слияния к автономии. В частности, вина это удерживание себя от этого движения. Значение стыда, напротив, связано с удерживанием себя от сближения. В одном случае – случае вины – мы видим прерывание движения ОТ другого человека, в другом случае – случае стыда – прерывание движения К другому человеку. «Сообщение», которое несет в себе эмоция, в одном случае – «Это свой человек, а не чужой!» В другом случае «сообщение» противоположно – «Это чужой человек, а не свой!»
Позвольте мне теперь вернуться к самому началу лекции, к утверждению о том, что теория поля, описанная в терминах организма и окружающей среды, противоречит теории диалога. Я хотел бы высказать противоположное утверждение: идея поля не противоречит, а вполне согласуется с теорией диалога. Нужно только уточнить смысл понятия «поле». В «Гештальт-подходе» Фриц Перлз писал: «Фактически все это поле является диалектически дифференцированным единством. Биологически оно дифференцировано на организм и среду, психологически на самость и иное, морально — на эгоизм и альтруизм, научно – на субъективное и объективное и т.д.» (Перлз, 1996, с.36-37). Итак, во-первых, пара «организм – среда» описывает преимущественно биологический уровень человеческого функционирования, и, во-вторых, поле это диалектически дифференцированное единство. Если мы возьмем первую книгу Фрица Перлза «Эго, голод и агрессия», мы увидим, что метафора поля была связана для Перлза не только с физикой и конструкциями Курта Левина, но, возможно, даже в большей степени с диалектической философией Зигмунда Фридландера. Позвольте процитировать: «Зная «поле», контекст (обратите внимание на эту запятую! – О.Н.), мы можем определить противоположности, и наоборот, зная противоположности, мы можем определить специфичное для них поле» (Перлз, 2000, с.41).
Основываясь на понимании поля Фрицем Перлзом (не Полом Гудманом или Гордоном Вилером), мы можем понять регулятивный смысл любого психического явления посредством трехшагового алгоритма. Первый шаг: опираясь на феноменологию, мы находим полярность исследуемого явления. Второй шаг: выясняем, что общего в двух полярностях. И третий шаг: основываясь на результате предыдущей операции, устанавливаем контекст, в котором осуществляется регуляция поведения.
Конкретно! Что противоположно стыду? Феноменологически при стыде человек съеживается и хочет, чтобы никто на него не смотрел и не видел. Когда же мы видим раздутую грудь и желание человека, чтобы все смотрели и видели его, это называется… гордость?
Что общего между стыдом и гордостью? – Вероятно, сосредоточенность на себе вместо (за счет?) сосредоточенности на другом. Здесь, как и в случае со стыдом и смущением, мы можем отличать удовлетворенность собой, не препятствующую субъект – субъектному характеру взаимодействия, от, скажем так, острой гордости, которая в норме является моментом празднования себя. (К примеру, вы стали олимпийским чемпионом. Вы стоите на пьедестале, над вами развевается национальный флаг и играет гимн. Праздник упоения своей победой. Так же и с любым другим значимым достижением. В регулятивном плане оно должно быть «переварено и усвоено», что в данном случае включает «празднование»). Но, будучи продленной за пределы ситуации (человек таскает с собой свой пьедестал), эта гордость становится прерыванием диалогической возможности. Вывод: регулятивный контекст стыда и гордости связан с прерыванием возможности диалогических отношений.
И еще один важный момент. Если мы описываем контекст в диалектическом ключе, в терминах противоположностей, тогда паре СТЫД и ГОРДОСТЬ должна соответствовать противоположная пара СМУЩЕНИЕ и … чувство, которое сопровождает празднование другого человека (не как объекта, а как другого субъекта).
Я уже говорил, что смущение это трепет встречи с другим человеком в нахлынувшей полноте его живого присутствия. И если это состояние не будет ретрофлексировано, а будет прожито до той точки, когда возникнет свободный взгляд на другого, то во что оно может перейти?
Я думаю, что чувство, отражающее празднование другого человека вкупе с сохранением собственной целостности и свободы, это чувство радости.
Идея о том, что радость является специфически диалогическим феноменом, может показаться странной. Радость часто относят к классу так называемых базовых чувств. И довольно распространенным является мнение, что эти базовые чувства врождены или, по крайней мере, могут быть поняты на биологическом уровне. Но что является врожденным? Специфическая иннервация лицевых мышц?
Известно, что первая улыбка младенца связана с присутствием другого человека. Начиная с 4 –5-й недели и до 4 – 5-го месяца жизни ребенок улыбается любому человеку, если лицо этого человека находится на расстоянии примерно двух футов и этот человек кивает ему. Начиная с 4 –5-ти-месячного возраста ребенок уже редко улыбается незнакомым людям, реагируя таким образом в основном на мать и других членов семьи (Изард, 2002; Мухина, 1985).
Более того, Кэррол Изард, известный исследователь в области психологии эмоций пишет, что «радость – это не просто позитивное отношение к миру и к себе, это своеобразная связь между человеком и миром». «Радостный человек видит мир в его красоте и гармонии, … он склонен скорее получать удовольствие от объекта, наслаждаться им, нежели анализировать и критически осмыслять его. Он воспринимает объект таким, каков он есть, не стремясь улучшить или изменить его. Он воспринимает объект как часть мира, чувствует свою близость, причастность к нему, а не отдаляется, чтобы «опредметить» его» (Изард, 2002, с.153).
И еще один, пусть и косвенный, аргумент. В экспериментальном исследовании Бартлетта и Изарда (1972, см.: Изард, 2002) изучались эмпирические корреляции между различными эмоциями. Радость значимо коррелировала с тремя эмоциями – интересом, удивлением и … к удивлению исследователей, с одной так называемой негативной эмоцией – смущением. Что же общего во всех этих эмоциях? Диалогическая обращенность переживающего.
Итак, радость как специфически диалогический феномен – это празднование другого человека в сочетании с собственным присутствием и пространственной свободой (переживаемой свободой движений в пространстве).
В этом определении, кстати говоря, содержится различие удовольствия и радости. Удовольствие, если можно так выразиться, — «проксимальное» чувство; оно может быть осмыслено на уровне взаимодействия организма и среды и описано в таких терминах как интенсивность стимуляции, чувствительность, разрядка напряжения. Радость – «дистантное» чувство. Оно появляется только тогда, когда в «среде» выделяется другой субъект. В этом случае человек имеет возможность переживания пространства между двумя субъектами, между ним и другим человеком.
Мартин Бубер утверждал, что «пространство между» является тем местом, где происходит диалог. Моя идея заключается в том, что «пространство между» — не только сущностный признак диалога, но также нечто, что может быть непосредственно переживаемым. И это переживание пространства между Мной и Другим является еще одним феноменологическим признаком диалога. (Позвольте напомнить вам, что первый феноменологический признак диалога по Буберу – удивление перед лицом инаковости другого человека.)
Здесь перед нами не исследованная область. Можно было бы поговорить о некоторых характеристиках диалогического пространства, но мы вышли бы далеко за границы данной лекции. В заключение я хотел бы лишь добавить, что, хотя психотерапия и не может по своей сути всегда соответствовать характеристикам диалога, мы не должны игнорировать то, что сама природа многих психических явлений укоренена в диалогических отношениях. И эти явления могут быть исследованы и описаны.
О.В. Немиринский
1. Бубер М. Два образа веры. М., Республика, 1995.
2. Ван де Риет В. Взгляд гештальт-терапевта на стыд и вину. – В сб.: Гештальт-97. Московский Гештальт Институт (сб. материалов).
3. Изард К. Психология эмоций. Спб, Питер, 2002.
4. Мухина В.С. Детская психология. М., «Просвещение», 1985.
5. Перлз Ф. Гештальт-подход и Свидетель терапии. М., Либрис, 1996.
6. Перлз Ф. Эго, голод и агрессия. М., Смысл, 2000.
7. Перлз Ф., Гудман П. Теория гештальт-терапии. М., Ин-т общегуманитарных исследований, 2001.
8. Резник Р. Гештальт-терапия: принципы, точки зрения и перспективы. – В сб.: Гештальт-95. Московский Гештальт Институт (сб. материалов), с. 6 – 12.
9. Резник Р. «Порочный круг» стыда: взгляд гештальт-терапии. – В сб.: Гештальт-2000. Московский Гештальт Институт (сб. материалов), с. 6 – 20.
10. Робин Ж.-М. Экологическая ниша. – В сб.: Гештальт-94. Московский Гештальт Институт (сб. материалов), с. 15 – 29.
11. Робин Ж.-М. Стыд. Стенограмма лекции в Москве. – В сб.: Гештальт-2002. Московский Гештальт Институт (сб. материалов).
12. Lee R., Wheeler G. (eds.) The Voices of Shame. S.F., Jossey-Bass Publishers, 1996.
13. Yontef G. Awareness, Dialogue and Process: Essays on Gestalt Therapy. N.Y., The Gestalt Journal Press, 1993.
2. Ван де Риет В. Взгляд гештальт-терапевта на стыд и вину. – В сб.: Гештальт-97. Московский Гештальт Институт (сб. материалов).
3. Изард К. Психология эмоций. Спб, Питер, 2002.
4. Мухина В.С. Детская психология. М., «Просвещение», 1985.
5. Перлз Ф. Гештальт-подход и Свидетель терапии. М., Либрис, 1996.
6. Перлз Ф. Эго, голод и агрессия. М., Смысл, 2000.
7. Перлз Ф., Гудман П. Теория гештальт-терапии. М., Ин-т общегуманитарных исследований, 2001.
8. Резник Р. Гештальт-терапия: принципы, точки зрения и перспективы. – В сб.: Гештальт-95. Московский Гештальт Институт (сб. материалов), с. 6 – 12.
9. Резник Р. «Порочный круг» стыда: взгляд гештальт-терапии. – В сб.: Гештальт-2000. Московский Гештальт Институт (сб. материалов), с. 6 – 20.
10. Робин Ж.-М. Экологическая ниша. – В сб.: Гештальт-94. Московский Гештальт Институт (сб. материалов), с. 15 – 29.
11. Робин Ж.-М. Стыд. Стенограмма лекции в Москве. – В сб.: Гештальт-2002. Московский Гештальт Институт (сб. материалов).
12. Lee R., Wheeler G. (eds.) The Voices of Shame. S.F., Jossey-Bass Publishers, 1996.
13. Yontef G. Awareness, Dialogue and Process: Essays on Gestalt Therapy. N.Y., The Gestalt Journal Press, 1993.
Литература