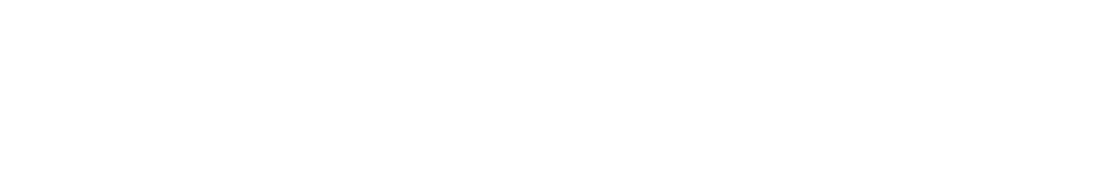Страсть и диалог
Опубликовано в Гештальт Гештальтов-2007 №2
Я хотел бы продолжить разговор, начатый в сообщении «Стыд и диалог» (Немиринский, 2006). Другой феномен, который, наряду со стыдом, очень важно исследовать для развития диалогического подхода в психотерапии, — это феномен страсти. Данную статью, однако, я решил начать со сжатого изложения основных положений диалогической теории Мартина Бубера. И дело здесь не только в том, что за последнее время я убедился в поверхностном представлении об идеях М.Бубера как среди отечественных, так и среди большинства зарубежных коллег. (Не исключаю, что даже серьезные теоретики гештальт-терапии знакомятся с его концепцией по популяризаторским («для широкого круга психотерапевтов») изложениям.) В еще большей степени это связано с тем, что раньше мне было трудно подступиться к задаче пересказа идей М.Бубера. Может быть, мешало благоговение… Следы этих затруднений читатель обнаружит и сейчас: они в большом количестве цитат. Мне хотелось сохранить для собеседников дух языка Мартина Бубера; я абсолютно уверен, что его идеи очень трудно понять и передать, если пользоваться выхолощено-наукообразным языком размеренного реферативного пересказа. Мне и сейчас нужно сказать себе: Ну, давай, решайся…
Я хотел бы продолжить разговор, начатый в сообщении «Стыд и диалог» (Немиринский, 2006). Другой феномен, который, наряду со стыдом, очень важно исследовать для развития диалогического подхода в психотерапии, — это феномен страсти. Данную статью, однако, я решил начать со сжатого изложения основных положений диалогической теории Мартина Бубера. И дело здесь не только в том, что за последнее время я убедился в поверхностном представлении об идеях М.Бубера как среди отечественных, так и среди большинства зарубежных коллег. (Не исключаю, что даже серьезные теоретики гештальт-терапии знакомятся с его концепцией по популяризаторским («для широкого круга психотерапевтов») изложениям.) В еще большей степени это связано с тем, что раньше мне было трудно подступиться к задаче пересказа идей М.Бубера. Может быть, мешало благоговение… Следы этих затруднений читатель обнаружит и сейчас: они в большом количестве цитат. Мне хотелось сохранить для собеседников дух языка Мартина Бубера; я абсолютно уверен, что его идеи очень трудно понять и передать, если пользоваться выхолощено-наукообразным языком размеренного реферативного пересказа. Мне и сейчас нужно сказать себе: Ну, давай, решайся…
О.В. Немиринский
Концепция диалога описывает отношения между человеком и миром. Это первое основание для понимания идей М.Бубера может показаться банальным. Повторяю: не межличностную коммуникацию, не закономерности предметной деятельности и даже не контакт в поле организм/среда, а отношения между человеком и миром.
Человек – живое существо, сознающее свою отдельность. В этом сознании своей отдельности и единичности он противопоставлен огромности мира. Как обходиться с этой необъятностью мироздания? Человек, который не хочет даже задумываться над соотнесением себя и мира, существует на до-философском (обыденном) уровне мировоззрения. Философия вынуждена прямо или косвенно давать ответ на этот вопрос. Ответом являются либо попытки «спастись» от вопроса путем увлечения идеями экстатического единения и слияния с миром, либо попытки снизить накал проблемы отношения с помощью агностического отвлечения от мира, вынесения его «за скобки», либо, чаще всего, стремление упорядочить мир для человеческого сознания, максимально структурировать и систематизировать представления о нем. И лишь небольшое количество философов вновь поднимало этот «неудобный», но поистине «базовый» психологический вопрос, вопрос отношения между человеком и миром, тревожа умы не ответами, а вопросами, вопросами…
Как-то Мартин Бубер разделил всех философов на «обустроенных» (непроблематичных) и «бездомных» (проблематичных) (см.: Померанц, 1999). К «бездомным» он относил Августина, Паскаля, Кьеркегора, тех, кто в своих концепциях не старался «приручить» мироздание, а ощущал и выражал остроту специфической человеческой проблемы соотнесения отдельного человека с миром. К таким «бездомным» философам можно отнести и самого Мартина Бубера. Итак, диалог.
Отношение между человеком и миром двойственно, так как включает в себя два рода отношений, или, точнее, два рода соотнесений человека с миром. Эти два рода соотнесений обозначаются словом «Я–Ты» и словом «Я–Оно». Бубер настаивает на том, что это – одно слово «Я–Ты» и одно слово «Я–Оно», так как само «я» внутри Я–Ты-отношений и «я» внутри Я–Оно-отношений существенно различны.
Рик Хикнер пишет: «Тире в терминах «Я-Ты» и «Я–Оно» глубоко символичны. Они буквально означают, что ориентация, с которой человек подходит к другим, всегда выражается в отношениях и отражается на нем самом. Таким образом, они свидетельствуют о стиле нашего отношения к самим себе. Если я подхожу к другим с позиции «Я–Ты», это будет являться отражением моего отношения к себе. Если я делаю других объектами, то превращаю в объект и самого себя. Это замкнутый круг, который мы должны осознавать» (Хикнер, 2001, с.15).
В своем самом известном труде – «Я и Ты» — Бубер говорит:
«Жизнь человеческого существа не ограничена областью переходных глаголов. Она не сводится лишь к такой деятельности, которая имеет нечто своим объектом. Я нечто воспринимаю. Я нечто ощущаю. Я нечто представляю. Я нечто желаю. Я нечто чувствую. Я нечто мыслю. Жизнь человеческого существа не состоит из одного только этого и подобного этому.
Все это и подобное этому составляет царство Оно.
Царство Ты имеет другое основание.
Тот, кто говорит Ты, не обладает никаким Нечто как объектом, … он не обладает ничем. Но он со-стоит в отношении.» (Бубер, 1999а, с. 25.)
В отношении «Я – Ты» Другой выступает для меня не как средство осуществления какой-либо потребности и не как цель моего действия, а как целостная личность, неразделимая и уникальная. Феноменологическими признаками подлинного диалога, подлинной встречи являются удивление перед лицом инаковости другого человека и интерес к его непредсказуемой активности. Когда происходит переживание встречи, то опыт и категоризация отступают; Другой открывается мне, но в момент этой встречи я не узнаю о нем ничего, кроме того, что непосредственно предстает мне, кроме того, что сейчас находится между нами и не может быть отнесено ни к одному, ни к другому по отдельности.
Здесь еще один очень важный тезис теории диалога. Местом встречи является «пространство между». Встреча не происходит во внутреннем мире, внутренний мир лишен такой возможности. Диалог – «это в первую очередь онтическое отношение, т.е. отношение, затрагивающее не только субъективность и эмпирическую жизнь человека, но и его объективное бытие» (Бубер, 1999-б, с.252). Во внутреннем мире нет Ты, его можно обнаружить только за пределами Я, в «пространстве между».
«Приобретающий опыт не сопричастен миру. Ведь опыт «в нем», а не между ним и миром.
Мир не сопричастен опыту. Он дает узнавать себя, но его это никак не затрагивает, ибо мир ничем не содействует приобретению опыта и с ним ничего не происходит.
Мир как опыт принадлежит основному слову Я-Оно. Основное слово Я-Ты создает мир отношения.» (Бубер, 1999а, с.26.)
«Отношение есть взаимность. Мое Ты воздействует на меня, как и я воздействую на него. Наши ученики учат нас, наши создания создают нас. «Злой» преображается в несущего откровение, когда его касается священное основное слово. Как нас воспитывают дети, как нас воспитывают животные! Мы живем в потоке всеохватывающей взаимности, неисследимо в него вовлеченные» (там же, с.34).
Мартин Бубер выделяет три сферы, в которых строится мир отношения: жизнь с природой, жизнь с людьми, жизнь с духовными сущностями.
В качестве простого примера встречи с природным явлением он рассматривает процесс созерцания дерева.
«Я могу отнести его к определенному виду деревьев и рассматривать как экземпляр этого вида, исходя из его строения и образа жизни.
Я могу так переусердствовать в мысленном отвлечении от его неповторимости и безупречности его формы, что увижу в нем лишь выражение закономерностей – законов, в силу которых постоянное противодействие сил неизменно уравновешивается, или же законов, в силу которых связь элементов, входящих в его состав, то возникает, то вновь распадается. (…)
Однако по воле и милости может произойти так, что, когда я гляжу на дерево, меня захватывает отношение с ним, и отныне это дерево уже больше не Оно. Сила исключительности завладела мной (курсив мой – О.Н.).
При этом, каким бы ни было мое видение дерева, мне нет нужды отрекаться от него. Ни от чего не должен я отвращать свой взгляд ради того, чтобы узреть, и ничего из того, что я знаю о нем, я не обязан предать забвению. Скорее все: зрительный образ и движение, вид и экземпляр, закон и число – присутствует здесь в неразделимом единстве. (…)
Дерево – это не впечатление, не игра моих представлений, … но оно предстоит мне телесно и имеет отношение ко мне, так же как и я к нему – только иным образом… Отношение есть взаимность» (там же, с.27-28).
На первый взгляд трудно себе представить активность дерева по отношению ко мне. (Может быть, поэтому Бубер и выделяет три различные сферы возможного осуществления Я-Ты-отношения…)
Думая об «одушевлении неодушевленного», я вспоминаю свою встречу с Венецией, которая длилась всего один день. Возможно, Венеция – не вполне «чистый» пример, так как она в значительной степени является еще и «духовной сущностью». Но я понимаю, что не мог бы дать полноценного ответа на вопрос: «Что мне понравилось в Венеции?» Один раз попытался, сказав, что «этот город устроен так…, в нем здания и мосты имеют такие формы и размеры, что в нем легко дышать», и тут же понял, насколько жалок, невразумителен и безнадежно фрагментарен мой ответ. Это все равно, что отвечать на вопрос, что нравится в любимой женщине – глаза, губы, руки? Очень многие ответы (а они составляют значительную часть мира искусства) будут правильными и – в еще большей степени – недостаточными.
Когда я рассказывал об этом своем опыте во время тренинговой программы в Нижнем Новгороде, одна участница в ответ рассказала мне о своих отношениях с ее городом, и это выглядело очень похожим на подлинное диалогическое отношение. В самом деле, у множества людей есть свой дуб, как у Андрея Болконского, или своя особая аллея, или свой, особенный, город.
Представлять себе, что такое Я-Ты-отношения «в сфере жизни с людьми», кажется, проще, хотя, с другой стороны, сложнее. Потому что то, что мы в обыденной речи называем диалогом, встречей – это совсем не то, что имел в виду Мартин Бубер.
Рик Хикнер поясняет: «Отношения «Я-Ты» — это опыт огромной ценности инаковости, уникальности и полноты бытия другого человека и возникающая в ответ твоя ценность для другого» (Хикнер, 2001, с.13).
Сам Бубер пишет об этом поэтично, говоря, что в момент встречи Другой «заполняет все поднебесное пространство. Это не означает, что, кроме него, ничего другого не существует: но все остальное живет в его свете» (Бубер, 1999а, с.28).
В качестве примера жизни с духовными сущностями М.Бубер рассматривает не религиозный опыт1, а процесс создания произведения искусства.
Послушаем его.
«Вот вечный источник искусства: образ, представший человеку, хочет стать через него произведением. Этот образ – не порождение души его, но то, что явилось пред ним, подступило к нему и взыскует его созидающей силы. Здесь все зависит от сущностного деяния человека: если он осуществит его, если изречет всем своим существом основное слово явившемуся образу, то изольется поток созидающей силы, возникнет произведение» (там же, с.29).
Мартин Бубер рассматривает взаимодействие со становящимся произведением искусства как подлинное отношение. Причем в таком отношении зависимость творца от произведения ничуть не меньше, чем зависимость произведения от творца.
«Основное слово может быть изречено только всем существом; кто всецело предается этому, тот не смеет ничего утаить от себя; произведение – в отличие от дерева и человека – не допустит, чтобы я искал отдохновения в мире Оно, произведение господствует: если я не служу ему так, как должно, оно уничтожится или уничтожит меня» (там же, с.29).
Здесь мне хочется отметить, что очень близок к Буберу в своем анализе природы творчества Ролло Мэй, когда пишет, что «главное, что отличает творческий акт, — то, что он является встречей» (Мэй, 2001, с.34). Проводя разграничительную линию между «эскапистским» творчеством (творчество как отреагирование, сублимация, изживание с помощью проецирования) и творчеством подлинным, Р.Мэй утверждает, что «в эскапистских формах творчества недостает истинной встречи, недостает контакта с реальностью» (там же, с.36). «Нельзя определять творчество как субъективное явление; его нельзя исследовать только сквозь призму того, что происходит в человеке. Объективный полюс – это неотъемлемая часть процесса творчества. То, что проявляется как творчество, — это всегда процесс, делание, а точнее, процесс, в котором осуществляется взаимосвязь личности и мира» (там же, с.43).
Мартин Бубер, касаясь материальности процесса творчества, далее пишет: «Я перевожу образ в мир Оно. Завершенное произведение есть вещь среди вещей, как сумма свойств, оно доступно объективному опыту и поддается описанию. Но тому, кто созерцает, восприемля и зачиная, оно вновь и вновь может пред-стоять телесно (Бубер, 1999а, с.30).
Таким образом, воспринимающий произведение искусства может вернуть ему жизнь Ты.
Совсем недавно я ясно почувствовал, что такое диалог, осуществленный в созерцании. Находясь в картинной галерее Кракова, я стоял перед картиной Леонардо да Винчи «Дама с горностаем». В общей сложности мы «общались» около часа. Вначале я разглядывал ее, и вскоре заметил, что она смотрит на меня. Впрочем, она смотрела на меня и, в то же время, не на меня. Через какое-то время я попытался отойти и оказался справа от нее. Выражение ее лица слегка изменилось. Я вернулся, затем стал смотреть по другой диагонали, слева. Впечатление стало опять немного иным. Через какое-то время, хотя я стоял на месте, в ее взгляде я обнаружил какие-то новые нотки. В самом деле, я был не только впечатлен ее жизненностью и обаянием, но и испытывал «интерес к ее непредсказуемой активности». Голос циника во мне насмешливо сказал: «М-да, отдаленно похоже на психотический опыт…» На самом деле, конечно, «отдаленно». Люди, созерцавшие вживую творения Леонардо да Винчи, знают, что разгадка скрывается не столько в особом состоянии воспринимающего (здесь важна в основном готовность к диалогу), сколько в реальных характеристиках картины. Ее автор умер около пятисот лет назад, а она до сих пор «разговаривает» с людьми.
Но произведение искусства может остаться непрочтенным, нераскрытым, не-оживленным. И человек может остаться «суммой свойств», не представая другому как уникальная личность в полноте своего присутствия. Да и пережитая встреча также не гарантирует сохранение Я-Ты-отношений. Рик Хикнер по этому поводу замечает:
«Я-Ты-встреча … не должна замораживаться как единственная или великая цель, которую в любом случае необходимо достичь. Здесь заключен парадокс возможной переоценки, «взвинчивания» значения «Я-Ты»-опыта. Такое случается, когда кто-то один из пары пытается превратить встречу «Я-Ты» в цель.
Забавно, но это рождает лишь состояния «Я-Оно»!» (Хикнер, 2001, с.15).
«В том и состоит возвышенная печаль нашей судьбы, что каждое Ты в нашем мире должно становиться Оно. Таким исключительным было присутствие Ты в непосредственном отношении: однако, коль скоро отношение исчерпало себя или стало пронизано средством, Ты становится объектом среди объектов, пусть самым благородным, но – одним из них, определенным в границе и мере. Творчество – это в одном смысле претворение в действительность, в другом – лишение действительности. (…) И сама любовь не может удержаться в непосредственном отношении; она продолжает существовать, но в чередовании актуальности и латентности. Человек, который только что был уникальным и несводимым к отдельным свойствам, который не был некоей данностью, а только присутствовал, не открывался объективному опыту, но был доступен прикосновению, — этот человек теперь снова Он или Она, сумма свойств, количество, заключенное в форму. И я опять могу отделить от него тон его волос, его речи, его доброты; но до тех пор, пока я могу сделать это, он уже не мое Ты и еще не стал им.
В мире каждое Ты в соответствии со своей сущностью обречено стать вещью или вновь и вновь отходить в вещность. На языке объектов это звучало бы так: каждая вещь в мире может или до, или после своего овеществления являться какому-либо Я как его Ты. Но это язык ухватывает лишь край действительной жизни» (Бубер, 1999а, с.35).
Я-Ты-отношения осуществляются через полноту присутствия в настоящем. Эти слова выглядят красиво, но претворение их в жизнь далеко не всегда оказывается «комфортным». Более того, оно требует слишком многого.
«Невозможно жить в чистом настоящем: не будь предусмотрено его преодоление, быстрое и основательное, оно изничтожило бы человека. Но можно жить в чистом прошлом, собственно, только в нем и возможно устроение жизни. Надо лишь заполнить каждое мгновение опытом и использованием, и оно перестанет жечь» (там же, с.49). И, завершающим аккордом: «Человек не может жить без Оно. Но тот, кто живет лишь с Оно, тот не человек» (там же).
Принять идеи Мартина Бубера означает позволить содержательной насыщенности настоящего «жечь» тебя. Не в этом ли секрет стремления многих психотерапевтов адаптировать Бубера, не вдумываясь и не вчувствуясь в его концепцию, а подгоняя ее под заранее заданный каркас того или иного терапевтического подхода?
Психоаналитическая теория, положившая начало современному представлению о психотерапии, практически целиком основана на феноменах Я-Оно и, в наибольшей степени, на идее конфликта социума и индивидуума. К сожалению, гештальт-терапия не вполне преодолела эти основания. Я говорю не только о философе-анархисте Поле Гудмане, увлеченном идеей освобождения (liberation) личности от нивелирующего влияния социума, но и о знакомом с идеями Бубера основателе гештальт-терапии Фридрихе Перлзе, не избежавшем на склоне лет идеи гештальт-кибуц – особой терапевтической среды, в которой бытро будет формироваться «человек гештальтистского завтра». И не спасло их представление о едином взаимосвязанном поле организм/среда, не дополненное идеей отношений между человеком и миром.
Не в самой ли нашей теории присутствуют зерна (или отсутствует противоядие) примитивного понимания гештальт-терапии как опоры на чувства вместо опоры на мысли или вульгарно-примитивного понимания психотерапии как «движения за освобождение от интроектов»?
Мартин Бубер писал, что человек, целиком погруженный в Я-Оно, «подчиняясь основному слову разделения, которое создает дистанцию между Я и Оно, делит свою жизнь среди людей … на две аккуратно очерченные сферы: социальные институты и чувства, сферу Оно и сферу Я.
Институты – это то, что «вовне»: там человек преследует всевозможные цели, работает, совершает сделки, оказывает влияние, становится предпринимателем и конкурирует с другими, организует, хозяйствует, служит, проповедует. Это до некоторой степени упорядоченная и более-менее согласованная структура, где дела идут своим ходом благодаря разносторонним усилиям человеческих мускулов и мозга.
Чувства – это то, что «внутри»: здесь человек живет и отдыхает от своей деятельности в институтах. Здесь заинтересованному взгляду предстанет целый спектр эмоций; человек потакает своим симпатиям и антипатиям, предается удовольствиям, а также страданиям, стараясь в последнем не заходить чересчур далеко. Здесь он у себя дома и может расслабиться в кресле-качалке.
Институты – это сложный форум, чувства же – своеобразный будуар, где никогда нет недостатка в развлечениях» (там же, с.53-54).
Но «институты не образуют общественную жизнь, чувства – личную. (…) Лишь немногие поняли, что чувства не образуют личную жизнь, хотя, казалось бы, именно в них должно обитать самое личное. И если уж кто умеет, как современный человек, заниматься лишь собственными чувствами, то даже отчаяние по поводу их неподлинности не вразумит его, ибо отчаяние – тоже чувство, и чувство весьма интересное. (…)
Живое взаимное отношение включает чувства, но не порождается чувствами (с.55).
И еще: «Институт брака никогда не обновить на каких-либо иных началах, минуя извечную основу истинного брака, ядро которого в том, что двое людей открывают друг другу Ты. Ты, которое не есть Я ни одного из них, строит из этого брак. Это метафизический и метапсихический факт любви, и чувства лишь сопровождают его» (с.55). Как Вы думаете, ведь это – не бесспорное утверждение?
В заключение этой части статьи я хотел бы повторить, что диалогическая настроенность – не набор техник и не набор свойств или установок. Это такое мировосприятие, при котором человек ощущает себя находящимся в постоянном диалоге с миром. Я задаю вопросы миру, и мир задает вопросы мне. И моя жизнь это ответы на призывы бытия и на те вопросы, которые разворачиваются предо мной. Еще раз: ответ это не словесная формула, а моя актуальная жизнедеятельность.
Человек – живое существо, сознающее свою отдельность. В этом сознании своей отдельности и единичности он противопоставлен огромности мира. Как обходиться с этой необъятностью мироздания? Человек, который не хочет даже задумываться над соотнесением себя и мира, существует на до-философском (обыденном) уровне мировоззрения. Философия вынуждена прямо или косвенно давать ответ на этот вопрос. Ответом являются либо попытки «спастись» от вопроса путем увлечения идеями экстатического единения и слияния с миром, либо попытки снизить накал проблемы отношения с помощью агностического отвлечения от мира, вынесения его «за скобки», либо, чаще всего, стремление упорядочить мир для человеческого сознания, максимально структурировать и систематизировать представления о нем. И лишь небольшое количество философов вновь поднимало этот «неудобный», но поистине «базовый» психологический вопрос, вопрос отношения между человеком и миром, тревожа умы не ответами, а вопросами, вопросами…
Как-то Мартин Бубер разделил всех философов на «обустроенных» (непроблематичных) и «бездомных» (проблематичных) (см.: Померанц, 1999). К «бездомным» он относил Августина, Паскаля, Кьеркегора, тех, кто в своих концепциях не старался «приручить» мироздание, а ощущал и выражал остроту специфической человеческой проблемы соотнесения отдельного человека с миром. К таким «бездомным» философам можно отнести и самого Мартина Бубера. Итак, диалог.
Отношение между человеком и миром двойственно, так как включает в себя два рода отношений, или, точнее, два рода соотнесений человека с миром. Эти два рода соотнесений обозначаются словом «Я–Ты» и словом «Я–Оно». Бубер настаивает на том, что это – одно слово «Я–Ты» и одно слово «Я–Оно», так как само «я» внутри Я–Ты-отношений и «я» внутри Я–Оно-отношений существенно различны.
Рик Хикнер пишет: «Тире в терминах «Я-Ты» и «Я–Оно» глубоко символичны. Они буквально означают, что ориентация, с которой человек подходит к другим, всегда выражается в отношениях и отражается на нем самом. Таким образом, они свидетельствуют о стиле нашего отношения к самим себе. Если я подхожу к другим с позиции «Я–Ты», это будет являться отражением моего отношения к себе. Если я делаю других объектами, то превращаю в объект и самого себя. Это замкнутый круг, который мы должны осознавать» (Хикнер, 2001, с.15).
В своем самом известном труде – «Я и Ты» — Бубер говорит:
«Жизнь человеческого существа не ограничена областью переходных глаголов. Она не сводится лишь к такой деятельности, которая имеет нечто своим объектом. Я нечто воспринимаю. Я нечто ощущаю. Я нечто представляю. Я нечто желаю. Я нечто чувствую. Я нечто мыслю. Жизнь человеческого существа не состоит из одного только этого и подобного этому.
Все это и подобное этому составляет царство Оно.
Царство Ты имеет другое основание.
Тот, кто говорит Ты, не обладает никаким Нечто как объектом, … он не обладает ничем. Но он со-стоит в отношении.» (Бубер, 1999а, с. 25.)
В отношении «Я – Ты» Другой выступает для меня не как средство осуществления какой-либо потребности и не как цель моего действия, а как целостная личность, неразделимая и уникальная. Феноменологическими признаками подлинного диалога, подлинной встречи являются удивление перед лицом инаковости другого человека и интерес к его непредсказуемой активности. Когда происходит переживание встречи, то опыт и категоризация отступают; Другой открывается мне, но в момент этой встречи я не узнаю о нем ничего, кроме того, что непосредственно предстает мне, кроме того, что сейчас находится между нами и не может быть отнесено ни к одному, ни к другому по отдельности.
Здесь еще один очень важный тезис теории диалога. Местом встречи является «пространство между». Встреча не происходит во внутреннем мире, внутренний мир лишен такой возможности. Диалог – «это в первую очередь онтическое отношение, т.е. отношение, затрагивающее не только субъективность и эмпирическую жизнь человека, но и его объективное бытие» (Бубер, 1999-б, с.252). Во внутреннем мире нет Ты, его можно обнаружить только за пределами Я, в «пространстве между».
«Приобретающий опыт не сопричастен миру. Ведь опыт «в нем», а не между ним и миром.
Мир не сопричастен опыту. Он дает узнавать себя, но его это никак не затрагивает, ибо мир ничем не содействует приобретению опыта и с ним ничего не происходит.
Мир как опыт принадлежит основному слову Я-Оно. Основное слово Я-Ты создает мир отношения.» (Бубер, 1999а, с.26.)
«Отношение есть взаимность. Мое Ты воздействует на меня, как и я воздействую на него. Наши ученики учат нас, наши создания создают нас. «Злой» преображается в несущего откровение, когда его касается священное основное слово. Как нас воспитывают дети, как нас воспитывают животные! Мы живем в потоке всеохватывающей взаимности, неисследимо в него вовлеченные» (там же, с.34).
Мартин Бубер выделяет три сферы, в которых строится мир отношения: жизнь с природой, жизнь с людьми, жизнь с духовными сущностями.
В качестве простого примера встречи с природным явлением он рассматривает процесс созерцания дерева.
«Я могу отнести его к определенному виду деревьев и рассматривать как экземпляр этого вида, исходя из его строения и образа жизни.
Я могу так переусердствовать в мысленном отвлечении от его неповторимости и безупречности его формы, что увижу в нем лишь выражение закономерностей – законов, в силу которых постоянное противодействие сил неизменно уравновешивается, или же законов, в силу которых связь элементов, входящих в его состав, то возникает, то вновь распадается. (…)
Однако по воле и милости может произойти так, что, когда я гляжу на дерево, меня захватывает отношение с ним, и отныне это дерево уже больше не Оно. Сила исключительности завладела мной (курсив мой – О.Н.).
При этом, каким бы ни было мое видение дерева, мне нет нужды отрекаться от него. Ни от чего не должен я отвращать свой взгляд ради того, чтобы узреть, и ничего из того, что я знаю о нем, я не обязан предать забвению. Скорее все: зрительный образ и движение, вид и экземпляр, закон и число – присутствует здесь в неразделимом единстве. (…)
Дерево – это не впечатление, не игра моих представлений, … но оно предстоит мне телесно и имеет отношение ко мне, так же как и я к нему – только иным образом… Отношение есть взаимность» (там же, с.27-28).
На первый взгляд трудно себе представить активность дерева по отношению ко мне. (Может быть, поэтому Бубер и выделяет три различные сферы возможного осуществления Я-Ты-отношения…)
Думая об «одушевлении неодушевленного», я вспоминаю свою встречу с Венецией, которая длилась всего один день. Возможно, Венеция – не вполне «чистый» пример, так как она в значительной степени является еще и «духовной сущностью». Но я понимаю, что не мог бы дать полноценного ответа на вопрос: «Что мне понравилось в Венеции?» Один раз попытался, сказав, что «этот город устроен так…, в нем здания и мосты имеют такие формы и размеры, что в нем легко дышать», и тут же понял, насколько жалок, невразумителен и безнадежно фрагментарен мой ответ. Это все равно, что отвечать на вопрос, что нравится в любимой женщине – глаза, губы, руки? Очень многие ответы (а они составляют значительную часть мира искусства) будут правильными и – в еще большей степени – недостаточными.
Когда я рассказывал об этом своем опыте во время тренинговой программы в Нижнем Новгороде, одна участница в ответ рассказала мне о своих отношениях с ее городом, и это выглядело очень похожим на подлинное диалогическое отношение. В самом деле, у множества людей есть свой дуб, как у Андрея Болконского, или своя особая аллея, или свой, особенный, город.
Представлять себе, что такое Я-Ты-отношения «в сфере жизни с людьми», кажется, проще, хотя, с другой стороны, сложнее. Потому что то, что мы в обыденной речи называем диалогом, встречей – это совсем не то, что имел в виду Мартин Бубер.
Рик Хикнер поясняет: «Отношения «Я-Ты» — это опыт огромной ценности инаковости, уникальности и полноты бытия другого человека и возникающая в ответ твоя ценность для другого» (Хикнер, 2001, с.13).
Сам Бубер пишет об этом поэтично, говоря, что в момент встречи Другой «заполняет все поднебесное пространство. Это не означает, что, кроме него, ничего другого не существует: но все остальное живет в его свете» (Бубер, 1999а, с.28).
В качестве примера жизни с духовными сущностями М.Бубер рассматривает не религиозный опыт1, а процесс создания произведения искусства.
Послушаем его.
«Вот вечный источник искусства: образ, представший человеку, хочет стать через него произведением. Этот образ – не порождение души его, но то, что явилось пред ним, подступило к нему и взыскует его созидающей силы. Здесь все зависит от сущностного деяния человека: если он осуществит его, если изречет всем своим существом основное слово явившемуся образу, то изольется поток созидающей силы, возникнет произведение» (там же, с.29).
Мартин Бубер рассматривает взаимодействие со становящимся произведением искусства как подлинное отношение. Причем в таком отношении зависимость творца от произведения ничуть не меньше, чем зависимость произведения от творца.
«Основное слово может быть изречено только всем существом; кто всецело предается этому, тот не смеет ничего утаить от себя; произведение – в отличие от дерева и человека – не допустит, чтобы я искал отдохновения в мире Оно, произведение господствует: если я не служу ему так, как должно, оно уничтожится или уничтожит меня» (там же, с.29).
Здесь мне хочется отметить, что очень близок к Буберу в своем анализе природы творчества Ролло Мэй, когда пишет, что «главное, что отличает творческий акт, — то, что он является встречей» (Мэй, 2001, с.34). Проводя разграничительную линию между «эскапистским» творчеством (творчество как отреагирование, сублимация, изживание с помощью проецирования) и творчеством подлинным, Р.Мэй утверждает, что «в эскапистских формах творчества недостает истинной встречи, недостает контакта с реальностью» (там же, с.36). «Нельзя определять творчество как субъективное явление; его нельзя исследовать только сквозь призму того, что происходит в человеке. Объективный полюс – это неотъемлемая часть процесса творчества. То, что проявляется как творчество, — это всегда процесс, делание, а точнее, процесс, в котором осуществляется взаимосвязь личности и мира» (там же, с.43).
Мартин Бубер, касаясь материальности процесса творчества, далее пишет: «Я перевожу образ в мир Оно. Завершенное произведение есть вещь среди вещей, как сумма свойств, оно доступно объективному опыту и поддается описанию. Но тому, кто созерцает, восприемля и зачиная, оно вновь и вновь может пред-стоять телесно (Бубер, 1999а, с.30).
Таким образом, воспринимающий произведение искусства может вернуть ему жизнь Ты.
Совсем недавно я ясно почувствовал, что такое диалог, осуществленный в созерцании. Находясь в картинной галерее Кракова, я стоял перед картиной Леонардо да Винчи «Дама с горностаем». В общей сложности мы «общались» около часа. Вначале я разглядывал ее, и вскоре заметил, что она смотрит на меня. Впрочем, она смотрела на меня и, в то же время, не на меня. Через какое-то время я попытался отойти и оказался справа от нее. Выражение ее лица слегка изменилось. Я вернулся, затем стал смотреть по другой диагонали, слева. Впечатление стало опять немного иным. Через какое-то время, хотя я стоял на месте, в ее взгляде я обнаружил какие-то новые нотки. В самом деле, я был не только впечатлен ее жизненностью и обаянием, но и испытывал «интерес к ее непредсказуемой активности». Голос циника во мне насмешливо сказал: «М-да, отдаленно похоже на психотический опыт…» На самом деле, конечно, «отдаленно». Люди, созерцавшие вживую творения Леонардо да Винчи, знают, что разгадка скрывается не столько в особом состоянии воспринимающего (здесь важна в основном готовность к диалогу), сколько в реальных характеристиках картины. Ее автор умер около пятисот лет назад, а она до сих пор «разговаривает» с людьми.
Но произведение искусства может остаться непрочтенным, нераскрытым, не-оживленным. И человек может остаться «суммой свойств», не представая другому как уникальная личность в полноте своего присутствия. Да и пережитая встреча также не гарантирует сохранение Я-Ты-отношений. Рик Хикнер по этому поводу замечает:
«Я-Ты-встреча … не должна замораживаться как единственная или великая цель, которую в любом случае необходимо достичь. Здесь заключен парадокс возможной переоценки, «взвинчивания» значения «Я-Ты»-опыта. Такое случается, когда кто-то один из пары пытается превратить встречу «Я-Ты» в цель.
Забавно, но это рождает лишь состояния «Я-Оно»!» (Хикнер, 2001, с.15).
«В том и состоит возвышенная печаль нашей судьбы, что каждое Ты в нашем мире должно становиться Оно. Таким исключительным было присутствие Ты в непосредственном отношении: однако, коль скоро отношение исчерпало себя или стало пронизано средством, Ты становится объектом среди объектов, пусть самым благородным, но – одним из них, определенным в границе и мере. Творчество – это в одном смысле претворение в действительность, в другом – лишение действительности. (…) И сама любовь не может удержаться в непосредственном отношении; она продолжает существовать, но в чередовании актуальности и латентности. Человек, который только что был уникальным и несводимым к отдельным свойствам, который не был некоей данностью, а только присутствовал, не открывался объективному опыту, но был доступен прикосновению, — этот человек теперь снова Он или Она, сумма свойств, количество, заключенное в форму. И я опять могу отделить от него тон его волос, его речи, его доброты; но до тех пор, пока я могу сделать это, он уже не мое Ты и еще не стал им.
В мире каждое Ты в соответствии со своей сущностью обречено стать вещью или вновь и вновь отходить в вещность. На языке объектов это звучало бы так: каждая вещь в мире может или до, или после своего овеществления являться какому-либо Я как его Ты. Но это язык ухватывает лишь край действительной жизни» (Бубер, 1999а, с.35).
Я-Ты-отношения осуществляются через полноту присутствия в настоящем. Эти слова выглядят красиво, но претворение их в жизнь далеко не всегда оказывается «комфортным». Более того, оно требует слишком многого.
«Невозможно жить в чистом настоящем: не будь предусмотрено его преодоление, быстрое и основательное, оно изничтожило бы человека. Но можно жить в чистом прошлом, собственно, только в нем и возможно устроение жизни. Надо лишь заполнить каждое мгновение опытом и использованием, и оно перестанет жечь» (там же, с.49). И, завершающим аккордом: «Человек не может жить без Оно. Но тот, кто живет лишь с Оно, тот не человек» (там же).
Принять идеи Мартина Бубера означает позволить содержательной насыщенности настоящего «жечь» тебя. Не в этом ли секрет стремления многих психотерапевтов адаптировать Бубера, не вдумываясь и не вчувствуясь в его концепцию, а подгоняя ее под заранее заданный каркас того или иного терапевтического подхода?
Психоаналитическая теория, положившая начало современному представлению о психотерапии, практически целиком основана на феноменах Я-Оно и, в наибольшей степени, на идее конфликта социума и индивидуума. К сожалению, гештальт-терапия не вполне преодолела эти основания. Я говорю не только о философе-анархисте Поле Гудмане, увлеченном идеей освобождения (liberation) личности от нивелирующего влияния социума, но и о знакомом с идеями Бубера основателе гештальт-терапии Фридрихе Перлзе, не избежавшем на склоне лет идеи гештальт-кибуц – особой терапевтической среды, в которой бытро будет формироваться «человек гештальтистского завтра». И не спасло их представление о едином взаимосвязанном поле организм/среда, не дополненное идеей отношений между человеком и миром.
Не в самой ли нашей теории присутствуют зерна (или отсутствует противоядие) примитивного понимания гештальт-терапии как опоры на чувства вместо опоры на мысли или вульгарно-примитивного понимания психотерапии как «движения за освобождение от интроектов»?
Мартин Бубер писал, что человек, целиком погруженный в Я-Оно, «подчиняясь основному слову разделения, которое создает дистанцию между Я и Оно, делит свою жизнь среди людей … на две аккуратно очерченные сферы: социальные институты и чувства, сферу Оно и сферу Я.
Институты – это то, что «вовне»: там человек преследует всевозможные цели, работает, совершает сделки, оказывает влияние, становится предпринимателем и конкурирует с другими, организует, хозяйствует, служит, проповедует. Это до некоторой степени упорядоченная и более-менее согласованная структура, где дела идут своим ходом благодаря разносторонним усилиям человеческих мускулов и мозга.
Чувства – это то, что «внутри»: здесь человек живет и отдыхает от своей деятельности в институтах. Здесь заинтересованному взгляду предстанет целый спектр эмоций; человек потакает своим симпатиям и антипатиям, предается удовольствиям, а также страданиям, стараясь в последнем не заходить чересчур далеко. Здесь он у себя дома и может расслабиться в кресле-качалке.
Институты – это сложный форум, чувства же – своеобразный будуар, где никогда нет недостатка в развлечениях» (там же, с.53-54).
Но «институты не образуют общественную жизнь, чувства – личную. (…) Лишь немногие поняли, что чувства не образуют личную жизнь, хотя, казалось бы, именно в них должно обитать самое личное. И если уж кто умеет, как современный человек, заниматься лишь собственными чувствами, то даже отчаяние по поводу их неподлинности не вразумит его, ибо отчаяние – тоже чувство, и чувство весьма интересное. (…)
Живое взаимное отношение включает чувства, но не порождается чувствами (с.55).
И еще: «Институт брака никогда не обновить на каких-либо иных началах, минуя извечную основу истинного брака, ядро которого в том, что двое людей открывают друг другу Ты. Ты, которое не есть Я ни одного из них, строит из этого брак. Это метафизический и метапсихический факт любви, и чувства лишь сопровождают его» (с.55). Как Вы думаете, ведь это – не бесспорное утверждение?
В заключение этой части статьи я хотел бы повторить, что диалогическая настроенность – не набор техник и не набор свойств или установок. Это такое мировосприятие, при котором человек ощущает себя находящимся в постоянном диалоге с миром. Я задаю вопросы миру, и мир задает вопросы мне. И моя жизнь это ответы на призывы бытия и на те вопросы, которые разворачиваются предо мной. Еще раз: ответ это не словесная формула, а моя актуальная жизнедеятельность.
I. Диалог
Другое явление, которому посвящена эта статья, — страсть. Под страстью я имею в виду влечение, увлечение, порыв, сопоставимый по силе с возможностями сознательного контроля.
Хотя значение этого явления для понимания человеческой жизнедеятельности трудно переоценить, понятие страсти практически отсутствует в психотерапевтической литературе; исключение составляет известная книга Ролло Мэя «Любовь и воля» (Мэй, 1997).
Ролло Мэй описывает страсть как вызов человеческому существованию, вызов целостности человеческого жизнеустройства. Действительно, вряд ли есть что-то более неудобное, более угрожающее с трудом достигаемому в жизни порядку, контролю и комфорту, чем страсть.
Для описания страсти Р.Мэй привлекает понятие «демонического», определяя его как «любую естественную функцию, которая обладает способностью целиком подчинять себе личность» (там же, с.127).
Дело в том, что есть два «принципиальных» решения проблемы страсти.
Одно – это подавление страсти. В самом деле, если страсть опасна и потенциально разрушительна, не лучше ли разумно «предохраняться» от нее?
Но лишение себя страстей приводит к потере жизненной энергии, потере «сочности» и личного обаяния. «Мы можем подавить демоническое, — пишет Р.Мэй, — но нам никуда не уйти от апатии и последующего взрыва, которые следуют по пятам за подавлением» (там же, с.128). Человек, лишивший себя страстей, представляет унылое зрелище. (Интересно, что христианская религия рассматривает уныние как грех чуть ли не больший, чем потакание своим страстям. Это понятно, так как уныние является состоянием безжизненности, душевного оскудения. Возможно, не так уж аморальна шутливая поговорка «Зачем предаваться греху уныния, когда на свете так много других грехов!»)
Другое «принципиальное» решение проблемы состоит в стремлении максимально отдаваться своим страстям. В пределе жизнь может восприниматься как наполненная азартом игра. («Все, все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимы наслажденья…»)
Здесь, однако, заключена другая очевидная опасность. Р.Мэй пишет: «Главной проблемой всегда остается разрушение цельности: один элемент личности узурпирует всю полноту власти и навязывает индивиду деструктивное поведение. Например, эротико-сексуальный порыв толкает индивида к физическому единению с партнером; но когда его порыв всецело подчиняет себе его самость, он влечет индивида в разные стороны и принуждает его разрываться между всевозможными связями, не принимая во внимание цельность его индивидуальности, самость его партнера, интересы общества» (там же, с.131-132).
На мой взгляд, оба с виду противоположных решения проблемы страсти имеют много общего, в том числе и общий корень – избегание напряжения, вызванного встречей с другим человеком и со своим страстным интересом к нему. Наличие сильного влечения или настойчивого побуждения – явление «напрягающее», «дискомфортное». Стремление, утрированно выражаясь, немедленно лечь в постель с каждой женщиной, начинающей вызывать эротические переживания, является, так же, как и подавление влечения, невротическим стремлением к «комфорту», к быстрейшему снятию напряжения.
Третье, и единственно перспективное, решение проблемы страстей состоит в отсутствии принципиального решения. Отсутствие априорного, заведомого решения (подавлять – отдаваться), допускание неопределенности и возможности как-то отнестись к ситуации переживания своего страстного порыва дает возможность пройти между слиянием со своими страстями и попыткой отчуждения от них с их последующим проецированием.
(Мне вспоминается, как Борису Новодержкину на одном из семинаров, который мы с ним вместе проводили, задали «умный» вопрос: «Скажите, а у Вас есть определение психотерапии?» Борис, сделав паузу, ответил: «Есть. Психотерапия – это продажа неопределенности по частям». Мне лично этот ответ нравится.)
Но неопределенность, как мы знаем, вызывает напряжение, поэтому проще обойтись без нее. Как, впрочем, и без изменений.
Другой важный вопрос – это вопрос о судьбе страсти. На состоявшейся в 2005 году конференции Московского Института Гештальт-терапии и Консультирования «Страсти по гештальту» многие коллеги говорили, что судьба страсти печальна. Сосредоточившись на объекте страсти, человек неминуемо замещает в этих отношениях другие интересы, и если поначалу его жизнь представляется ему не только счастливой, но и богатой и разнообразной, то постепенно отношения с объектом страсти начинают обрастать рутиной и становятся все более серыми, скучными, лишенными содержания. «Страсть противоположна диалогическим отношениям» — услышал я. Отчасти именно страстное несогласие с этой точкой зрения побудило меня начать писать эту статью. И прежде, чем мы проведем ясную разграничительную линию между страстью и зависимостью, я хотел бы остановиться на вопросе о соотношении страсти и диалога.
Хотя значение этого явления для понимания человеческой жизнедеятельности трудно переоценить, понятие страсти практически отсутствует в психотерапевтической литературе; исключение составляет известная книга Ролло Мэя «Любовь и воля» (Мэй, 1997).
Ролло Мэй описывает страсть как вызов человеческому существованию, вызов целостности человеческого жизнеустройства. Действительно, вряд ли есть что-то более неудобное, более угрожающее с трудом достигаемому в жизни порядку, контролю и комфорту, чем страсть.
Для описания страсти Р.Мэй привлекает понятие «демонического», определяя его как «любую естественную функцию, которая обладает способностью целиком подчинять себе личность» (там же, с.127).
Дело в том, что есть два «принципиальных» решения проблемы страсти.
Одно – это подавление страсти. В самом деле, если страсть опасна и потенциально разрушительна, не лучше ли разумно «предохраняться» от нее?
Но лишение себя страстей приводит к потере жизненной энергии, потере «сочности» и личного обаяния. «Мы можем подавить демоническое, — пишет Р.Мэй, — но нам никуда не уйти от апатии и последующего взрыва, которые следуют по пятам за подавлением» (там же, с.128). Человек, лишивший себя страстей, представляет унылое зрелище. (Интересно, что христианская религия рассматривает уныние как грех чуть ли не больший, чем потакание своим страстям. Это понятно, так как уныние является состоянием безжизненности, душевного оскудения. Возможно, не так уж аморальна шутливая поговорка «Зачем предаваться греху уныния, когда на свете так много других грехов!»)
Другое «принципиальное» решение проблемы состоит в стремлении максимально отдаваться своим страстям. В пределе жизнь может восприниматься как наполненная азартом игра. («Все, все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимы наслажденья…»)
Здесь, однако, заключена другая очевидная опасность. Р.Мэй пишет: «Главной проблемой всегда остается разрушение цельности: один элемент личности узурпирует всю полноту власти и навязывает индивиду деструктивное поведение. Например, эротико-сексуальный порыв толкает индивида к физическому единению с партнером; но когда его порыв всецело подчиняет себе его самость, он влечет индивида в разные стороны и принуждает его разрываться между всевозможными связями, не принимая во внимание цельность его индивидуальности, самость его партнера, интересы общества» (там же, с.131-132).
На мой взгляд, оба с виду противоположных решения проблемы страсти имеют много общего, в том числе и общий корень – избегание напряжения, вызванного встречей с другим человеком и со своим страстным интересом к нему. Наличие сильного влечения или настойчивого побуждения – явление «напрягающее», «дискомфортное». Стремление, утрированно выражаясь, немедленно лечь в постель с каждой женщиной, начинающей вызывать эротические переживания, является, так же, как и подавление влечения, невротическим стремлением к «комфорту», к быстрейшему снятию напряжения.
Третье, и единственно перспективное, решение проблемы страстей состоит в отсутствии принципиального решения. Отсутствие априорного, заведомого решения (подавлять – отдаваться), допускание неопределенности и возможности как-то отнестись к ситуации переживания своего страстного порыва дает возможность пройти между слиянием со своими страстями и попыткой отчуждения от них с их последующим проецированием.
(Мне вспоминается, как Борису Новодержкину на одном из семинаров, который мы с ним вместе проводили, задали «умный» вопрос: «Скажите, а у Вас есть определение психотерапии?» Борис, сделав паузу, ответил: «Есть. Психотерапия – это продажа неопределенности по частям». Мне лично этот ответ нравится.)
Но неопределенность, как мы знаем, вызывает напряжение, поэтому проще обойтись без нее. Как, впрочем, и без изменений.
Другой важный вопрос – это вопрос о судьбе страсти. На состоявшейся в 2005 году конференции Московского Института Гештальт-терапии и Консультирования «Страсти по гештальту» многие коллеги говорили, что судьба страсти печальна. Сосредоточившись на объекте страсти, человек неминуемо замещает в этих отношениях другие интересы, и если поначалу его жизнь представляется ему не только счастливой, но и богатой и разнообразной, то постепенно отношения с объектом страсти начинают обрастать рутиной и становятся все более серыми, скучными, лишенными содержания. «Страсть противоположна диалогическим отношениям» — услышал я. Отчасти именно страстное несогласие с этой точкой зрения побудило меня начать писать эту статью. И прежде, чем мы проведем ясную разграничительную линию между страстью и зависимостью, я хотел бы остановиться на вопросе о соотношении страсти и диалога.
II. Страсть
Проблема соотношения страсти и диалога оригинально трактуется Мартином Бубером в работе «Образы добра и зла» (Бубер, 1999в). Эта работа, на первый взгляд, является религиоведческой, и потому она не привлекла к себе пристального внимания психотерапевтов. В качестве отправной точки своего анализа М.Бубер рассматривает ситуацию грехопадения Адама и Евы, приведшую к появлению у них стыда и изгнанию из рая.
Что за запрет положен был Богом Адаму и Еве в качестве условия нахождения в раю? Не есть плодов с древа познания добра и зла. Что это означает? Не знать, что хорошо и что плохо?
М.Бубер, будучи знатоком истории священных текстов, обращает наше внимание на то, что смысловой контекст этой фразы – «познание добра и зла» — может отличаться от современной трактовки этих слов.
««Знание добра и зла» означает не что иное, как знание противоположностей, которые в ранних письменных текстах человеческого рода обозначались этими двумя понятиями. Это еще примитивные, многое охватывающие понятия; они охватывают как счастье и беду, так и порядок и его нарушение, испытываемые человеком или создаваемые им самим. Так обстоит дело и в раннеавестийских текстах и в библейских книгах до пророков, к которым относится и разбираемый нами текст. В терминологии современного мышления то, что имеется здесь в виду, можно описать как достаточное сознание противоположности всего мирского бытия…» (Бубер, 1999в, с.167).
Таким образом, «знание добра и зла» — это знание противоположностей. Научившись противопоставлять, человек обретет сознание противопоставленности себя и мира. Он обретет самосознание и тогда лишится рая, то есть лишится единства с миром и непосредственности переживания жизни в нем.
Но дело не только в этом. М.Бубер проводит любопытный, по сути дела, феноменологический, анализ сцены искушения Евы змеем, сцены, которая является метафорическим описанием предпосылок возникновения самосознания. Женщина вожделенно смотрит на дерево и видит, что плоды его вкусны и дают знание. Но как она может видеть это? Видимо, мы имеем дело с ироническим пересказом того, что можно назвать переживанием грезы. Ева воображает нарушение запрета и грезит о сладости плода.
Я бы хотел ненадолго отвлечься от библейского и буберовского текстов, напомнив, что воображение играет важнейшую роль в развитии самосознания. Маленький ребенок, когда его желания связаны с другим человеком, непосредственно выражает ему свой порыв. Если желание будет удовлетворено, он будет переживать и выражать свое довольство; получив отвержение, будет столь же непосредственно огорчаться (либо попытается настоять на своем, и лишь получив повторный отказ, отдастся своему огорчению). Его эмоциональная реакция полна, она дает ему возможность исчерпать ситуацию и быть готовым к новым взаимодействиям. Лишь со временем он научится ретрофлексировать свою реакцию, «перемещать объект желания» во внутренний мир и взаимодействовать с ним в пространстве своего воображения. «Удваивая» свой мир, он обретает возможность противопоставлять себя окружающему миру и себе самому. В отношении к своим страстям (порывам, вожделениям) это означает, что он становится способным к само-отношению, и в частности, к само-отвержению.
Вернемся теперь к тому, что происходит с Адамом и Евой на их пути к становлению людьми.
Отведав плод с древа познания добра и зла, они вдруг увидели себя нагими и устыдились этого. Иначе говоря, оказавшись способными воображать, «как бы видеть», они начали «видеть» себя глазами других и обнаружили себя в качестве объекта рассмотрения. Момент обнаружения себя в качестве объекта восприятия – это момент переживания смущения или стыда (о различиях между смущением и стыдом см.: Немиринский, 2006). Наше внимание здесь обращается на очень важный момент в развитии человека – способность останавливаться перед реализацией своего желания и задавать себе контрольный вопрос – «Уместен ли я сейчас со своим порывом?»
Таким образом, обретая внутренний мир как пространство существования страсти, люди получают парадоксальный результат: они оказываются склонными приостанавливаться в своем влечении друг к другу. Стыд появляется как противовес страсти.
Как бы подтверждая мысль о важности этой «контрольной остановки», Мартин Бубер напоминает, что за рассказом о грехопадении Адама и Евы в Библии следует рассказ о первом преступлении человека – убийстве Каином Авеля. Каин позавидовал Авелю и захотел встать на его место. Уже это можно трактовать как «зло» в том древнем смысле слова, так как это – душевное пре-ступление реальности, отпадение от единства с миром. Но мы знаем, что зависть важна и полезна для развития личности, да и в нравственном плане она может быть предпосылкой многих добрых дел, если она сознается и переживается во всей своей полноте и противоречивости, если человек может отнестись к своей зависти. (В Библии Бог пытается уберечь Каина от преступления, как раз предлагая не подавлять зависть, а отнестись к своим помыслам («если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним»).) Но Каин не остановился. Он уже обрел страсть как длящуюся грезу, но не смог выйти из сладкого мира непосредственности и испытать стыд перед тем, чьим любимцем он хотел стать. Будучи лишенным стыда, он совершил свой поступок и стал виновен.
Однако, говоря о важности способности к само-отвержению, нам не следует забывать о том, что противоречивость пронизывает все развитие человека. Высокая степень само-отвержения приводит к разрастанию внутреннего мира. И тогда появляется другой соблазн – возможность подмены отношения с миром «отношением с собой». Человек может начать «реализовывать» свои отношения в пространстве своих грез, все более «перемещаясь» из реальной жизни во внутренний мир. Тем более, что в грезах можно обойтись без стыда и вины. Само-отвержение, приводя к разрастанию внутреннего мира, временно «отрицает» себя в этом самом внутреннем мире.
Слава Богу (как в метафорическом, так и в буквальном смысле слова, если вернуться к развитию библейского сюжета), человеку положено ограничение в этом соблазне жить во внутреннем мире.
Итак, человек обретает сознание противоположностей и самосознание, и тем самым обрекает себя на покидание рая. Но в библейском повествовании Бог «опасается», что человек отведает еще и плодов с «древа вечной жизни» и «станет как один из нас», и поэтому изгоняет его из рая.
М.Бубер, анализируя это «станет как один из нас», указывает на отличия Бога от человека в контексте отношения к творению. Бог является воплощенной силой творения (свободной игры противоположностями). Человек, во-первых, является частью самой игры, он сам – часть творческой ситуации. (Можно добавить, что поэтому он не столь свободен в этой игре противоположностями, и творчество сопровождается для него муками, что и было одним из благословенных наказаний при изгнании из рая.) Во-вторых, и это представляется Буберу наиболее важным, есть как минимум одно противопоставление, одно «отвержение», которое человек не может преодолеть, и это дано ему в сознании собственной смертности. Это «отвержение» со стороны Бога неоспоримо, и оно целительно, так как дает ему возможность неотвратимого осознания собственной не-безграничности. Если бы не было этого целительного осознания, человек вообразил бы себя безграничным («стал бы как Бог», и здесь очень важно слово «как») и обрек бы себя на мучительное существование в пределах своего внутреннего мира.
(В психотерапии важность вопроса о границах и о вытекающем из их существования отвержении трудно переоценить. Особенно ярко это видно в терапевтических группах. Пока в группе не произойдет реального отвержения порыва одного участника со стороны другого (а до этого ясных отвержений со стороны ведущего, в том числе касающихся контрактных границ терапевтической жизни), участники могут сохранять иллюзию безусловного принятия их внутреннего мира миром окружающим. Пока перед ними не высветится будто неоновой надписью, – «отвержение реально», пока они не проживут это отвержение в самых разных чувствах, в том числе и стыде, — они не смогут устанавливать подлинно реалистические отношения друг с другом.)
Мы можем, упрощая, конечно, обобщенно сказать о границах человека: человек – тот, кто наделен внутренним миром, но не самодостаточен.
Таким образом, страсть в самом деле противостоит диалогу. Живущая в форме длящейся грезы, она отнимает человека от живого взаимодействия с миром. Но одновременно страсть ставит человека перед задачей движения к диалогу. Эта задача не привносится извне, а обусловлена самой закономерностью проявления страсти.
Страсть – это жажда объекта. Охваченный страстью человек стремится «достичь» и «поглотить» объект, потребить его полностью. Даже если объектом является другой человек, мы можем видеть эту жажду вкусить другого во всех его проявлениях, желанных «до безумия».
Но другой человек как целостная и уникальная личность содержит в себе тайну. Эта тайна становится «доступной прикосновению», когда человек выступает для кого-либо как его Ты. Но она не может быть раскрыта до конца! Более того, этот процесс явления тайны Другого вообще в очень малой степени поддается контролю. И эта «неподконтрольность волшебства» приводит к жизни самые драматические перипетии в противоречивых отношениях страсти и диалога. Например, можно вспомнить мысль Эриха Фромма о том, что садизм – это стремление силой вырвать тайну другого человека . Дело в том, что любовь, как заметил Ролло Мэй (1997), это крушение крепости. Любящий может испугаться власти, которую имеет над ним чарующий его другой человек. И тогда он может начать мстить другому за эту власть, за неуничтожимость его тайны. Порой можно видеть, как некто одновременно и благоговейно лелеет тайну другого, и стремится разрушить ее. Сама страсть в своем пределе стремится к разрушению тайны, так как она хочет полного захвата, полного «потребления» другого, и, следовательно, лишения его той тайны, которая и вызвала к жизни саму страсть, и поддерживает ее силу. Поэтому-то страсть требует диалога, иначе она обречена на умирание. И сколь бы долгим и захватывающим не было это умирание, какие бы возбуждающие и поистине чарующие формы оно не принимало, судьба «одинокой» страсти, не вовлеченной в диалогические отношения – постепенно терять краски, тускнеть и растворяться. Чтобы жить, страсть должна быть интегрирована в отношения, которые, с одной стороны, реалистичны, а с другой стороны, включают в себя трепетное уважение к тайне Другого. Но и эта интеграция не означает «примирения». Страсть всегда будет оставаться в неоднозначных, противоречивых отношениях с диалогом. И эта противоречивость наполняет содержанием человеческую жизнь. Противоположность страсти и диалога создает объем жизненного мира человека. В одном ли месте он даст слабину (и попытается подавить свои страсти), в другом ли (не сможет интегрировать их в диалогические отношения), — в обоих случаях его ждет обеднение жизненного мира. Произойдет ли, напротив, его обогащение в ходе психотерапии? Возможно, это тот вопрос, над которым в каждом конкретном случае стоит подумать…
Что за запрет положен был Богом Адаму и Еве в качестве условия нахождения в раю? Не есть плодов с древа познания добра и зла. Что это означает? Не знать, что хорошо и что плохо?
М.Бубер, будучи знатоком истории священных текстов, обращает наше внимание на то, что смысловой контекст этой фразы – «познание добра и зла» — может отличаться от современной трактовки этих слов.
««Знание добра и зла» означает не что иное, как знание противоположностей, которые в ранних письменных текстах человеческого рода обозначались этими двумя понятиями. Это еще примитивные, многое охватывающие понятия; они охватывают как счастье и беду, так и порядок и его нарушение, испытываемые человеком или создаваемые им самим. Так обстоит дело и в раннеавестийских текстах и в библейских книгах до пророков, к которым относится и разбираемый нами текст. В терминологии современного мышления то, что имеется здесь в виду, можно описать как достаточное сознание противоположности всего мирского бытия…» (Бубер, 1999в, с.167).
Таким образом, «знание добра и зла» — это знание противоположностей. Научившись противопоставлять, человек обретет сознание противопоставленности себя и мира. Он обретет самосознание и тогда лишится рая, то есть лишится единства с миром и непосредственности переживания жизни в нем.
Но дело не только в этом. М.Бубер проводит любопытный, по сути дела, феноменологический, анализ сцены искушения Евы змеем, сцены, которая является метафорическим описанием предпосылок возникновения самосознания. Женщина вожделенно смотрит на дерево и видит, что плоды его вкусны и дают знание. Но как она может видеть это? Видимо, мы имеем дело с ироническим пересказом того, что можно назвать переживанием грезы. Ева воображает нарушение запрета и грезит о сладости плода.
Я бы хотел ненадолго отвлечься от библейского и буберовского текстов, напомнив, что воображение играет важнейшую роль в развитии самосознания. Маленький ребенок, когда его желания связаны с другим человеком, непосредственно выражает ему свой порыв. Если желание будет удовлетворено, он будет переживать и выражать свое довольство; получив отвержение, будет столь же непосредственно огорчаться (либо попытается настоять на своем, и лишь получив повторный отказ, отдастся своему огорчению). Его эмоциональная реакция полна, она дает ему возможность исчерпать ситуацию и быть готовым к новым взаимодействиям. Лишь со временем он научится ретрофлексировать свою реакцию, «перемещать объект желания» во внутренний мир и взаимодействовать с ним в пространстве своего воображения. «Удваивая» свой мир, он обретает возможность противопоставлять себя окружающему миру и себе самому. В отношении к своим страстям (порывам, вожделениям) это означает, что он становится способным к само-отношению, и в частности, к само-отвержению.
Вернемся теперь к тому, что происходит с Адамом и Евой на их пути к становлению людьми.
Отведав плод с древа познания добра и зла, они вдруг увидели себя нагими и устыдились этого. Иначе говоря, оказавшись способными воображать, «как бы видеть», они начали «видеть» себя глазами других и обнаружили себя в качестве объекта рассмотрения. Момент обнаружения себя в качестве объекта восприятия – это момент переживания смущения или стыда (о различиях между смущением и стыдом см.: Немиринский, 2006). Наше внимание здесь обращается на очень важный момент в развитии человека – способность останавливаться перед реализацией своего желания и задавать себе контрольный вопрос – «Уместен ли я сейчас со своим порывом?»
Таким образом, обретая внутренний мир как пространство существования страсти, люди получают парадоксальный результат: они оказываются склонными приостанавливаться в своем влечении друг к другу. Стыд появляется как противовес страсти.
Как бы подтверждая мысль о важности этой «контрольной остановки», Мартин Бубер напоминает, что за рассказом о грехопадении Адама и Евы в Библии следует рассказ о первом преступлении человека – убийстве Каином Авеля. Каин позавидовал Авелю и захотел встать на его место. Уже это можно трактовать как «зло» в том древнем смысле слова, так как это – душевное пре-ступление реальности, отпадение от единства с миром. Но мы знаем, что зависть важна и полезна для развития личности, да и в нравственном плане она может быть предпосылкой многих добрых дел, если она сознается и переживается во всей своей полноте и противоречивости, если человек может отнестись к своей зависти. (В Библии Бог пытается уберечь Каина от преступления, как раз предлагая не подавлять зависть, а отнестись к своим помыслам («если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним»).) Но Каин не остановился. Он уже обрел страсть как длящуюся грезу, но не смог выйти из сладкого мира непосредственности и испытать стыд перед тем, чьим любимцем он хотел стать. Будучи лишенным стыда, он совершил свой поступок и стал виновен.
Однако, говоря о важности способности к само-отвержению, нам не следует забывать о том, что противоречивость пронизывает все развитие человека. Высокая степень само-отвержения приводит к разрастанию внутреннего мира. И тогда появляется другой соблазн – возможность подмены отношения с миром «отношением с собой». Человек может начать «реализовывать» свои отношения в пространстве своих грез, все более «перемещаясь» из реальной жизни во внутренний мир. Тем более, что в грезах можно обойтись без стыда и вины. Само-отвержение, приводя к разрастанию внутреннего мира, временно «отрицает» себя в этом самом внутреннем мире.
Слава Богу (как в метафорическом, так и в буквальном смысле слова, если вернуться к развитию библейского сюжета), человеку положено ограничение в этом соблазне жить во внутреннем мире.
Итак, человек обретает сознание противоположностей и самосознание, и тем самым обрекает себя на покидание рая. Но в библейском повествовании Бог «опасается», что человек отведает еще и плодов с «древа вечной жизни» и «станет как один из нас», и поэтому изгоняет его из рая.
М.Бубер, анализируя это «станет как один из нас», указывает на отличия Бога от человека в контексте отношения к творению. Бог является воплощенной силой творения (свободной игры противоположностями). Человек, во-первых, является частью самой игры, он сам – часть творческой ситуации. (Можно добавить, что поэтому он не столь свободен в этой игре противоположностями, и творчество сопровождается для него муками, что и было одним из благословенных наказаний при изгнании из рая.) Во-вторых, и это представляется Буберу наиболее важным, есть как минимум одно противопоставление, одно «отвержение», которое человек не может преодолеть, и это дано ему в сознании собственной смертности. Это «отвержение» со стороны Бога неоспоримо, и оно целительно, так как дает ему возможность неотвратимого осознания собственной не-безграничности. Если бы не было этого целительного осознания, человек вообразил бы себя безграничным («стал бы как Бог», и здесь очень важно слово «как») и обрек бы себя на мучительное существование в пределах своего внутреннего мира.
(В психотерапии важность вопроса о границах и о вытекающем из их существования отвержении трудно переоценить. Особенно ярко это видно в терапевтических группах. Пока в группе не произойдет реального отвержения порыва одного участника со стороны другого (а до этого ясных отвержений со стороны ведущего, в том числе касающихся контрактных границ терапевтической жизни), участники могут сохранять иллюзию безусловного принятия их внутреннего мира миром окружающим. Пока перед ними не высветится будто неоновой надписью, – «отвержение реально», пока они не проживут это отвержение в самых разных чувствах, в том числе и стыде, — они не смогут устанавливать подлинно реалистические отношения друг с другом.)
Мы можем, упрощая, конечно, обобщенно сказать о границах человека: человек – тот, кто наделен внутренним миром, но не самодостаточен.
Таким образом, страсть в самом деле противостоит диалогу. Живущая в форме длящейся грезы, она отнимает человека от живого взаимодействия с миром. Но одновременно страсть ставит человека перед задачей движения к диалогу. Эта задача не привносится извне, а обусловлена самой закономерностью проявления страсти.
Страсть – это жажда объекта. Охваченный страстью человек стремится «достичь» и «поглотить» объект, потребить его полностью. Даже если объектом является другой человек, мы можем видеть эту жажду вкусить другого во всех его проявлениях, желанных «до безумия».
Но другой человек как целостная и уникальная личность содержит в себе тайну. Эта тайна становится «доступной прикосновению», когда человек выступает для кого-либо как его Ты. Но она не может быть раскрыта до конца! Более того, этот процесс явления тайны Другого вообще в очень малой степени поддается контролю. И эта «неподконтрольность волшебства» приводит к жизни самые драматические перипетии в противоречивых отношениях страсти и диалога. Например, можно вспомнить мысль Эриха Фромма о том, что садизм – это стремление силой вырвать тайну другого человека . Дело в том, что любовь, как заметил Ролло Мэй (1997), это крушение крепости. Любящий может испугаться власти, которую имеет над ним чарующий его другой человек. И тогда он может начать мстить другому за эту власть, за неуничтожимость его тайны. Порой можно видеть, как некто одновременно и благоговейно лелеет тайну другого, и стремится разрушить ее. Сама страсть в своем пределе стремится к разрушению тайны, так как она хочет полного захвата, полного «потребления» другого, и, следовательно, лишения его той тайны, которая и вызвала к жизни саму страсть, и поддерживает ее силу. Поэтому-то страсть требует диалога, иначе она обречена на умирание. И сколь бы долгим и захватывающим не было это умирание, какие бы возбуждающие и поистине чарующие формы оно не принимало, судьба «одинокой» страсти, не вовлеченной в диалогические отношения – постепенно терять краски, тускнеть и растворяться. Чтобы жить, страсть должна быть интегрирована в отношения, которые, с одной стороны, реалистичны, а с другой стороны, включают в себя трепетное уважение к тайне Другого. Но и эта интеграция не означает «примирения». Страсть всегда будет оставаться в неоднозначных, противоречивых отношениях с диалогом. И эта противоречивость наполняет содержанием человеческую жизнь. Противоположность страсти и диалога создает объем жизненного мира человека. В одном ли месте он даст слабину (и попытается подавить свои страсти), в другом ли (не сможет интегрировать их в диалогические отношения), — в обоих случаях его ждет обеднение жизненного мира. Произойдет ли, напротив, его обогащение в ходе психотерапии? Возможно, это тот вопрос, над которым в каждом конкретном случае стоит подумать…
Страсть и диалог
В обыденном сознании бытует представление о том, что есть страсть темная, приводящая к мучительной зависимости, а есть страсть светлая, воплощенная в любви. На самом деле, страсти «темные» и «светлые» — это не разновидности страстей, а скорее их динамические характеристики.
Прежде всего, страсть и зависимость – явления разноуровневые: страсть – это характеристика порыва, а зависимость – характеристика отношений. Поэтому, когда я говорю о динамических характеристиках страстей, я имею в виду, конечно же, не интенсивность страсти, а характеристики тех отношений, в которые «вписан» страстный порыв. Зависимость отличается от здоровой привязанности главным образом своим компенсаторным характером. В основе зависимости всегда лежит избегание какого-то опыта. Точнее выражаясь, зависимость – это универсальное средство «спасения». Например, алкоголь поначалу может быть средством преодоления стеснительности, затем способом стать «своим» в компании, затем еще средством избегания грусти, затем единственным средством не чувствовать отчаяния, затем … и т.д., пока он не станет универсальным средством. То же относится и к другим формам химической зависимости, которые стремятся к тому, чтобы стать универсальным ответом на любое возбуждение. Однако эти же характеристики применимы и к любовной зависимости, когда другой человек становится спасением.
Помню, как в 1997 году я начал экспериментировать с воздержанием от курения. Моя жена, сама некурящая, с интересом спросила меня: «Чем же ты заменишь удовольствие от курения?» «А я каждый раз, когда мне захочется курить, буду целовать тебя» — ответил я. И тогда моя любимая и, как показала жизнь, любящая жена сказала: «Боюсь, что тогда закурю я». Я до сих пор с благодарностью вспоминаю эти слова, которые были мгновенным ироничным ответом на попытку превратить ее из субъекта отношений в объект зависимости.
Дополнительной характеристикой любовной зависимости может служить отсутствие феноменологических характеристик диалога. Иногда можно видеть, что страсть переплетена со страхом и как будто нанизана на страх. Тогда вероятность зависимых отношений и взаимной разрушительности более вероятна, чем когда страсть соседствует с радостью и «празднованием» Другого. Причем имеется в виду именно радость и возобновляющееся удивление, а не только удовольствие, перемежающееся с «отрезвляющей» пустотой и скукой в моменты естественного спада возбуждения.
Но вернемся к основной характеристике зависимости. «Спасательский» характер зависимых отношений проявляется в том, что гештальт-терапевты называют динамикой фигуры/фона. В переживании страсти «объект» страсти становится яркой фигурой на фоне всего остального мира. Вопрос в том, насколько структурирован фон, сохраняется ли разнообразие интересов вне отношений с «фигурой», образно говоря, «есть ли жизнь» вне отношений с «объектом» страсти. Если фон блекнет, то фигура тоже обречена на постепенное потускнение. Тогда мы имеем ту самую «судьбу страсти», о которой говорили ранее. Человек чувствует себя самым счастливым человеком на свете, он упивается своей страстью, но постепенно страсть стареет, тускнеет, и он обнаруживает себя опустошенным. То, что вначале переживалось как дар, затем стало лишением.
Этот процесс усугубляется еще и тем, что компенсаторный характер зависимости провоцирует иллюзорное восприятие объекта зависимости. Возникает идеализация, которая при столкновении с реальностью неминуемо должна либо разрушаться (часто вместе с отношениями), либо усугубляться, чтобы затем разрушиться еще более впечатляющим образом.
Если же другой человек не становится универсальным средством спасения и, как следствие, не оттягивает на себя все краски окружающего мира, то сохраняются условия для живых, изменяющихся отношений. Эти отношения питаются соком страсти, которая, в свою очередь, побуждает к разворачиванию диалога, к возобновляющимся приходам Ты.
Прежде всего, страсть и зависимость – явления разноуровневые: страсть – это характеристика порыва, а зависимость – характеристика отношений. Поэтому, когда я говорю о динамических характеристиках страстей, я имею в виду, конечно же, не интенсивность страсти, а характеристики тех отношений, в которые «вписан» страстный порыв. Зависимость отличается от здоровой привязанности главным образом своим компенсаторным характером. В основе зависимости всегда лежит избегание какого-то опыта. Точнее выражаясь, зависимость – это универсальное средство «спасения». Например, алкоголь поначалу может быть средством преодоления стеснительности, затем способом стать «своим» в компании, затем еще средством избегания грусти, затем единственным средством не чувствовать отчаяния, затем … и т.д., пока он не станет универсальным средством. То же относится и к другим формам химической зависимости, которые стремятся к тому, чтобы стать универсальным ответом на любое возбуждение. Однако эти же характеристики применимы и к любовной зависимости, когда другой человек становится спасением.
Помню, как в 1997 году я начал экспериментировать с воздержанием от курения. Моя жена, сама некурящая, с интересом спросила меня: «Чем же ты заменишь удовольствие от курения?» «А я каждый раз, когда мне захочется курить, буду целовать тебя» — ответил я. И тогда моя любимая и, как показала жизнь, любящая жена сказала: «Боюсь, что тогда закурю я». Я до сих пор с благодарностью вспоминаю эти слова, которые были мгновенным ироничным ответом на попытку превратить ее из субъекта отношений в объект зависимости.
Дополнительной характеристикой любовной зависимости может служить отсутствие феноменологических характеристик диалога. Иногда можно видеть, что страсть переплетена со страхом и как будто нанизана на страх. Тогда вероятность зависимых отношений и взаимной разрушительности более вероятна, чем когда страсть соседствует с радостью и «празднованием» Другого. Причем имеется в виду именно радость и возобновляющееся удивление, а не только удовольствие, перемежающееся с «отрезвляющей» пустотой и скукой в моменты естественного спада возбуждения.
Но вернемся к основной характеристике зависимости. «Спасательский» характер зависимых отношений проявляется в том, что гештальт-терапевты называют динамикой фигуры/фона. В переживании страсти «объект» страсти становится яркой фигурой на фоне всего остального мира. Вопрос в том, насколько структурирован фон, сохраняется ли разнообразие интересов вне отношений с «фигурой», образно говоря, «есть ли жизнь» вне отношений с «объектом» страсти. Если фон блекнет, то фигура тоже обречена на постепенное потускнение. Тогда мы имеем ту самую «судьбу страсти», о которой говорили ранее. Человек чувствует себя самым счастливым человеком на свете, он упивается своей страстью, но постепенно страсть стареет, тускнеет, и он обнаруживает себя опустошенным. То, что вначале переживалось как дар, затем стало лишением.
Этот процесс усугубляется еще и тем, что компенсаторный характер зависимости провоцирует иллюзорное восприятие объекта зависимости. Возникает идеализация, которая при столкновении с реальностью неминуемо должна либо разрушаться (часто вместе с отношениями), либо усугубляться, чтобы затем разрушиться еще более впечатляющим образом.
Если же другой человек не становится универсальным средством спасения и, как следствие, не оттягивает на себя все краски окружающего мира, то сохраняются условия для живых, изменяющихся отношений. Эти отношения питаются соком страсти, которая, в свою очередь, побуждает к разворачиванию диалога, к возобновляющимся приходам Ты.
Страсть и зависимость
Я не буду здесь описывать логику работы с зависимостью; это требует отдельной статьи или нескольких статей. Скажу лишь несколько слов о работе со страстью.
Мне часто доводится супервизировать работу участников тренинговых программ друг с другом. В тот раз, о котором я хочу рассказать, молодая участница, вышедшая к другой в позиции клиента, рассказывала о своей ревности. Она жаловалась, что «патологически ревнива», и своей ревностью уже неоднократно разрушала отношения с молодыми людьми. «Сейчас у меня есть мужчина, который мне дорог, — говорила она, — и я не хочу, чтобы наши отношения разрушились. Но я ревную его ко всем. Я ревную его ко всем женщинам, с которыми он общается, к тем, кто просто стоит рядом с ним. Я даже ревную его к тем женщинам, которые были у него в прошлом!»
Терапевт выслушивает ее и растерянно говорит: «Ну, ты же понимаешь, что это неразумно…»
Конечно! Конечно, она понимает, что это «неразумно». Но вряд ли напоминание о «неразумности» ее перехлестывающей страсти принесет ей какую-то пользу. Не лучше ли было бы инициировать ее условное обращение к своему возлюбленному (с «пустым стулом» или без – не столь важно), чтобы она могла выразить ему всю полноту своего ревнивого порыва?
При поддержке терапевта она могла бы позволить себе сказать нечто вроде: «Я хочу, чтобы все женщины, которые есть в твоей жизни, — это была я! Я хочу, чтобы все женщины, которые когда-либо были в твоей жизни, — это была я!!»
Эта предельная выраженность переживания должна прозвучать, а не быть подавленной рациональными успокоениями со стороны терапевта. Только тогда это переживание сможет, в конце концов, интегрироваться в реальные отношения и преобразоваться в них в связи с закономерностями развития этих отношений.
Впрочем, сами клиенты часто хотят «преждевременного примирения конфликта» (какой все же удачный термин Ф.Перлза (2001)!), чтобы избавиться от напряжения мучающей и «разрушающей» их «неразумной» страсти. Например, побыстрее избавиться от ненужного влечения к кому-либо. В таких случаях терапевту, как бы парадоксально и, на первый взгляд, негуманно это не выглядело, вместо «помощи» клиенту в этом устремлении, лучше мягко удерживать его от преждевременного решения, побуждая переживать «вредные» страсти и способствуя более пластичному отношению к своим душевным движениям. Попутно восстанавливается реалистичность и такая важная вещь как чувство юмора, то есть способность отнестись к своим переживаниям.
Отдельный вопрос – это наполненность страстным отношением к окружающему миру самого терапевта. Мне кажется, что терапевт, задающий правильные вопросы и отпускающий разумные реплики, — это в лучшем случае необходимая стадия обучения, а в худшем – распространенная в кинематографе карикатура на психоаналитика.
Мы уже говорили об объеме жизненного мира. Образно говоря, коэффициент страстности, умноженный на коэффициент диалогичности, задает масштаб личности. (Именно задает, а не обеспечивает, так как этот масштаб в конечном счете порождается в реальных жизненных связях человека.) И так как психотерапия – это межличностная ситуация, то «величина» личности психотерапевта играет в ней далеко не последнюю роль.
В заключение хочу еще раз сказать, что страстность – это часть человеческой природы, и отказ от нее – отказ от сути человеческого существования. Путь к диалогу лежит через перипетии страсти.
Возьму-ка я себе в союзники Давида Самойлова и предоставлю ему завершить эту статью:
«О, как я поздно понял,
Зачем я существую!
Зачем гоняет сердце
По жилам кровь живую.
И что порой напрасно
Давал страстям улечься!..
И что нельзя беречься,
И что нельзя беречься…»2
Мне часто доводится супервизировать работу участников тренинговых программ друг с другом. В тот раз, о котором я хочу рассказать, молодая участница, вышедшая к другой в позиции клиента, рассказывала о своей ревности. Она жаловалась, что «патологически ревнива», и своей ревностью уже неоднократно разрушала отношения с молодыми людьми. «Сейчас у меня есть мужчина, который мне дорог, — говорила она, — и я не хочу, чтобы наши отношения разрушились. Но я ревную его ко всем. Я ревную его ко всем женщинам, с которыми он общается, к тем, кто просто стоит рядом с ним. Я даже ревную его к тем женщинам, которые были у него в прошлом!»
Терапевт выслушивает ее и растерянно говорит: «Ну, ты же понимаешь, что это неразумно…»
Конечно! Конечно, она понимает, что это «неразумно». Но вряд ли напоминание о «неразумности» ее перехлестывающей страсти принесет ей какую-то пользу. Не лучше ли было бы инициировать ее условное обращение к своему возлюбленному (с «пустым стулом» или без – не столь важно), чтобы она могла выразить ему всю полноту своего ревнивого порыва?
При поддержке терапевта она могла бы позволить себе сказать нечто вроде: «Я хочу, чтобы все женщины, которые есть в твоей жизни, — это была я! Я хочу, чтобы все женщины, которые когда-либо были в твоей жизни, — это была я!!»
Эта предельная выраженность переживания должна прозвучать, а не быть подавленной рациональными успокоениями со стороны терапевта. Только тогда это переживание сможет, в конце концов, интегрироваться в реальные отношения и преобразоваться в них в связи с закономерностями развития этих отношений.
Впрочем, сами клиенты часто хотят «преждевременного примирения конфликта» (какой все же удачный термин Ф.Перлза (2001)!), чтобы избавиться от напряжения мучающей и «разрушающей» их «неразумной» страсти. Например, побыстрее избавиться от ненужного влечения к кому-либо. В таких случаях терапевту, как бы парадоксально и, на первый взгляд, негуманно это не выглядело, вместо «помощи» клиенту в этом устремлении, лучше мягко удерживать его от преждевременного решения, побуждая переживать «вредные» страсти и способствуя более пластичному отношению к своим душевным движениям. Попутно восстанавливается реалистичность и такая важная вещь как чувство юмора, то есть способность отнестись к своим переживаниям.
Отдельный вопрос – это наполненность страстным отношением к окружающему миру самого терапевта. Мне кажется, что терапевт, задающий правильные вопросы и отпускающий разумные реплики, — это в лучшем случае необходимая стадия обучения, а в худшем – распространенная в кинематографе карикатура на психоаналитика.
Мы уже говорили об объеме жизненного мира. Образно говоря, коэффициент страстности, умноженный на коэффициент диалогичности, задает масштаб личности. (Именно задает, а не обеспечивает, так как этот масштаб в конечном счете порождается в реальных жизненных связях человека.) И так как психотерапия – это межличностная ситуация, то «величина» личности психотерапевта играет в ней далеко не последнюю роль.
В заключение хочу еще раз сказать, что страстность – это часть человеческой природы, и отказ от нее – отказ от сути человеческого существования. Путь к диалогу лежит через перипетии страсти.
Возьму-ка я себе в союзники Давида Самойлова и предоставлю ему завершить эту статью:
«О, как я поздно понял,
Зачем я существую!
Зачем гоняет сердце
По жилам кровь живую.
И что порой напрасно
Давал страстям улечься!..
И что нельзя беречься,
И что нельзя беречься…»2
О работе со страстями
1. Бубер М. Я и Ты. – В кн.: М.Бубер. Два образа веры. М., АСТ, 1999а, с.24 — 121.
2. Бубер М. Проблема человека. – В кн.: М.Бубер. Два образа веры…, с.202 — 300.
3. Бубер М. Образы добра и зла. – В кн.: М.Бубер. Два образа веры…, с.162 — 201.
4. Мэй Р. Любовь и воля. М., «Рефл-бук», 1997.
5. Мэй Р. Мужество творить. М., Институт общегуманитарных исследований, 2001.
6. Немиринский О.В. Стыд и диалог. – Гештальт гештальтов, 2006, №2, с.10 — 19.
7. Перлз Ф., Гудмен П. Теория гештальт-терапии. М., Институт общегуманитарных исследований, 2001.
8. Померанц Г. Встречи с Бубером. – В кн.: М.Бубер. Два образа веры…, с.5 — 23.
9. Хикнер Р. Диалогическая основа. – Российский гештальт, Новосибирск, 2001, с.9 – 33.
________________
1. Интересно, что в «Проблеме человека» М.Бубер недвусмысленно отмежевывается от напыщенной «религиозности»: «Если религиозный человек есть нечто иное, чем экзистенциальная актуация всего того, что в человеке «нерелигиозном» живет как скрытая забота, как робко сетующая заброшенность, как вопиющее отчаяние, то такой «религиозный человек» попросту монстр. Человек начинается не там, где ищут Бога, но там, где страдают от того, что Бог далеко, хотя и не понимают причины страдания. «Духовный» же человек, в котором живет дух, нигде более не встречающийся, дух, который понимает искусство и отстраняется от всякой жизни, — такой человек возможен лишь как недоразумение.
Если дух как призвание хочет быть по сути своей чем-то иным, а не духом как событием, тогда он уже не истинный дух, но самовольно занявший его место суррогат. Дух заложен в искре всякой жизни… Нет никакого иного духа, кроме того, который питается единством жизни и единением с миром» (Бубер, 1999-б, с.288-289).
2. Давид Самойлов. Избр.произв. в 2-х тт., М., «Худ. лит-ра», 1989, т.1, с.96.
2. Бубер М. Проблема человека. – В кн.: М.Бубер. Два образа веры…, с.202 — 300.
3. Бубер М. Образы добра и зла. – В кн.: М.Бубер. Два образа веры…, с.162 — 201.
4. Мэй Р. Любовь и воля. М., «Рефл-бук», 1997.
5. Мэй Р. Мужество творить. М., Институт общегуманитарных исследований, 2001.
6. Немиринский О.В. Стыд и диалог. – Гештальт гештальтов, 2006, №2, с.10 — 19.
7. Перлз Ф., Гудмен П. Теория гештальт-терапии. М., Институт общегуманитарных исследований, 2001.
8. Померанц Г. Встречи с Бубером. – В кн.: М.Бубер. Два образа веры…, с.5 — 23.
9. Хикнер Р. Диалогическая основа. – Российский гештальт, Новосибирск, 2001, с.9 – 33.
________________
1. Интересно, что в «Проблеме человека» М.Бубер недвусмысленно отмежевывается от напыщенной «религиозности»: «Если религиозный человек есть нечто иное, чем экзистенциальная актуация всего того, что в человеке «нерелигиозном» живет как скрытая забота, как робко сетующая заброшенность, как вопиющее отчаяние, то такой «религиозный человек» попросту монстр. Человек начинается не там, где ищут Бога, но там, где страдают от того, что Бог далеко, хотя и не понимают причины страдания. «Духовный» же человек, в котором живет дух, нигде более не встречающийся, дух, который понимает искусство и отстраняется от всякой жизни, — такой человек возможен лишь как недоразумение.
Если дух как призвание хочет быть по сути своей чем-то иным, а не духом как событием, тогда он уже не истинный дух, но самовольно занявший его место суррогат. Дух заложен в искре всякой жизни… Нет никакого иного духа, кроме того, который питается единством жизни и единением с миром» (Бубер, 1999-б, с.288-289).
2. Давид Самойлов. Избр.произв. в 2-х тт., М., «Худ. лит-ра», 1989, т.1, с.96.
Литература